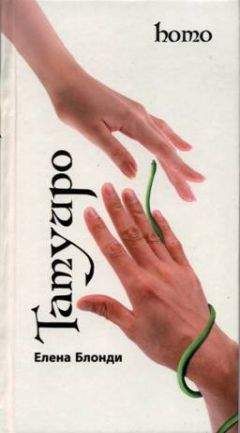…Юрок объявился, когда с Липычем разошлись.
Жила с девчонками на квартире, бегала в поисках работы. Очень хотелось уехать. Не домой, что там, дома. И не потому что посёлок, а просто всю жизнь хотелось чего-то, и всё думалось — успеется, потом-потом. И только, когда побыла на краю смерти, в белом тумане наркоза увидела годы своей жизни — горсткой в ладони. Лежат, как семечки вперемешку с шелухой, и страшно мало их, даже если отпущено дожить до ста лет, белый туман сказал — малость. Не забывала об увиденном, даже когда рвущая сердце боль превратилась в постоянное привычное нытьё в ежедневной суете. Как-то осталась одна в квартире, девчонки убежали в гости. Убираясь, посреди луж на полу и тряпок села рядом с распахнутым окном, сложив на коленях мокрые руки, и спросила себя — чего ты хочешь, Лада? Молодая женщина, потерявшая ребёнка и разведённая, у которой в старой сумочке лежит случайный диплом библиотечного техникума? Что тебе важно?
В окно грохотало шоссе, со двора слышались обрывки пьяной ссоры, дул резкий ветерок, недомытые стекла сверкали радужными разводами, за стеной орал «Оффспринг», и кто-то под музыку визжал и топал. И она сказала, почти крикнула, чтоб услышать себя в шуме огромного города:
— Хочу утром выходить на песок, босиком, к морю, прямо с чашкой кофе в руках. И чтоб в доме большой стол с рисунками, моими! А когда устанут глаза рисовать, идти по берегу, далеко-далеко, чтоб вернуться уже к ночи…С ним. И не надо народу!
Прислушалась, расхохочется ли ей в лицо столица?
Анетка говорила, елозя по личику ватным тампоном по вечерам:
— Какая же ты дура, Ладка! Иди к нам, в цех упаковки. Рисуешь классно, Зяма возьмёт тебя художником, я попрошу, а дальше сама-сама. Ты ему нравишься. Через пару лет институт, карьера. Мы с Ленуськой тебя еще возненавидим, когда будешь приходить и пальцем тыкать, тут уберите и тут подклейте.
Но городу было наплевать на её желания. И Ладе тогда стало стыдно за них, — никчёмные, нелепые. Девчонка, дурочка… мечты — одно, жизнь — совсем другое. Мечты — утренний холод песка под босыми ногами, жизнь — толстозадый Зяма с широким лицом, блестящим, как немытая сковородка. Мечты — летать, делая то, что приходит на сердце. Жизнь — больница и взгляд свекрови с приговором в нем «не справилась, даже ребёнка родить не сумела мужу»…
… Может, наказали её при рождении? Но за что её? Милая, мирная, старалась, как лучше. А всё валится и валится вокруг.
Юрок так обрадовался, что она обрадовалась тоже, хотя и побаивалась его, вспоминая, как в техникум приходил, высвистывал её из-за забора. Тогда это лестно было. Не успел ничего с дурочкой сделать, рассказывали, уехал быстро, потому что кого-то искалечил в драке. И вдруг, через столько лет, посреди Москвы, притормозила иностранная машина, и оттуда — он! Расцеловал и сразу за цветами сбегал. Вручил огромный веник роз в целлофане, смеялся, щуря монгольские глаза. Предложил было подвезти, но на часы посмотрел и, цокнув, извинился, дела. Стал доставать телефон, чтобы её номер записать, а потом вдруг обнял и, в лицо заглядывая, спросил, вроде как утвердил:
— Ты тут часто стоишь, на остановке, Лада моя?
— Да каждый день, — ответила сразу, так всё у него легко было, играючи и радостно. Хотела добавить, в какое время, но он легонечко за плечи встряхнул:
— Молчи! Сам найду!
Через день увидела красное авто — и Юрка рядом стоит картинно, оперся на полированный бок, держит цветами вниз веник из белых роз. Анетка с шага сбилась и ухватилась за её локоть длинными коготками, когда он Ладе замахал и пошёл к ним через трамвайные пути.
— Вот это чувачину ты прячешь, а? Ввау! Куда пойдёте сегодня?
— Брось, это старый знакомый. Куда идти, я его даже боюсь.
— Ду-у-ура! Улыбайся скорее и имей в виду: на таких машинах простые людишки не ездиют. А не хочешь сама — познакомь, слышишь?
Последние слова уже шипела шёпотом. Юрок подошёл и обеим руки поцеловал прямо посреди улицы.
— Две тысячи сорок четыре, — снова вспомнила Лада счёт. И снова забыла, падая в воспоминания и отмахиваясь от них.
А ничего у них с Юрой Карпатым и не было в тот день. В бар сходили. Через день — ещё. Смотрел сочувственно, слушая её кратко рассказанную историю. Ломал белыми пальцами шоколадку и время от времени совал ей в рот квадратики, следя, чтоб съедала. Ей стало весело и тепло. Довезя домой во второй раз, поцеловал её в губы в подъезде, один раз. Спросил, дыша в ухо:
— Хочешь, Ладушка?
— Прости, я ещё совсем… Не хочу, Юр. Я ведь полгода всего назад в больнице. Я…
— Не оправдывайся! Нет, так нет.
И окликнул её, когда уже поднимала руку к звонку:
— Слышь, Ладушка! Ты запомни: никогда не оправдывайся! Поняла?
— Да, Юра.
Закричали дети, так близко, будто за спиной, и она дёрнулась от неровной стенки. Прошлёпали по траве босые ноги, и, прошуршав, смолкло всё вблизи, а вдалеке шумела река и шумела деревня. Что-то будет, наверное, сегодня вечером. Потому что на широкой площади между хижин суетились женщины, катали обрубки брёвнышек, ставя их на попа, а две, крича по-птичьему и провожая Ладу глазами, вешали на заборы длинные гирлянды, сплетённые из синих огромных вьюнков.
Вечером, лёжа в постели, Лада рассказывала Ленке и Анет про Юру Карпатого.
— Он из нашего посёлка. Из школы выгнали или сам ушёл, компания у него была — сплошные уголовники. Мне всё издалека кивал да улыбался. А потом, когда я уже в райцентре, в техникуме, приходил к забору, помню, у нас физкультура, а он сидит на заборе, машет рукой. Приносил шоколадки. Смеялся, вот подрастёшь, Лада, и станешь моей любимой. И ничего себе не позволял. А мне что — шестнадцать, девчонки все завидуют. Да и не один он был. Болтали про него в поселке, что взрослую женщину, зав рестораном, у мужа увёл. А потом вдруг пропал, нету. Говорили, уехал, чтоб не посадили, подрался, вроде, с этим самым мужем, и тот попал в больницу, надолго. И вот, здесь встретила.
— Дела у него, видать, идут. Не тяни резину, Ладка. Будешь ходить в мехах, нет, ездить будешь. А вдруг он тебе квартирку прикупит?
— Лен…
— Что, Лен? Они приезжают, знаешь, какие хваткие? Это местные тюхи всё ждут, когда им денег в карман положат, а наши мальчики всё сами берут! Потому что свежая кровь, энергия, по телеку передача была про понаехавших тут, про нас, значит. Мы сильнее, понимаешь?
— Да не хочу я этой силы!
— А чего же ты хочешь?
— Я…
Лёжа на боку, Лада смотрела на голый Ленкин локоть с бликом от уличного фонаря. На блестящие глаза Анетки у другой стены. И поняла: не скажет им о чашке кофе в руках и песке под босыми ногами. Незачем.