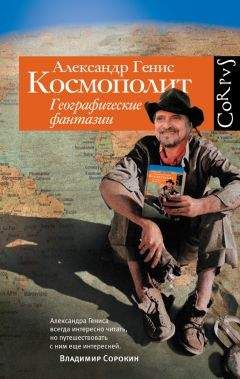Между тем Том Роуган, бесшумно ступая по лохматому ковру, приблизился к платяному шкафу. Он шел босиком, и его шаги были не слышны, как легкое дуновение ветра. Опять эта сигарета! Вот что его бесило. Много времени прошло со дня того первого урока. Были и другие уроки, он проводил их часто. Не раз в жаркие дни Бев приходилось надевать блузки с длинными рукавами и даже джемперы, застегивая их наглухо на шее. А в серые ненастные дни она частенько ходила в защитных очках. Но тот первый урок был неожиданным и основательным.
Том забыл про телефонный звонок, прервавший его первый сон. Его волновало лишь одно — сигарета. Если Бев сейчас курит, значит, она забыла Тома Роугана. Разумеется, на какое-то время, лишь на короткий отрезок времени, но даже оно тянется уже чертовски долго. Неважно, что могло ее заставить забыть о нем, Томе. Подобных вещей вообще не должно быть в его доме, какими бы причинами они ни вызывались.
На двери чулана с внутренней стороны висел широкий черный кожаный ремень. Пряжки на нем не было, он давно ее снял. На месте пряжки Том Роуган свернул ремень вдвое и завязал петлю. В нее-то он и просунул руку.
«Том, ты плохо себя вел, — иногда говорила ему мать. Впрочем, «иногда» не совсем подходящее слово, вернее было бы сказать «часто». — Подойди сюда, Томми. Я должна тебя отлупить».
Все его детство так или иначе связано с поркой. Впоследствии он уехал и поступил в колледж в Уичите; полностью избавиться от неприятных воспоминаний, по-видимому, было невозможно; даже во сне ему слышался голос матери: «Подойди сюда, Томми, я должна тебя отлупить».
У Роуганов было четверо детей. Том был старшим. Спустя три месяца после рождения младшего умер отец — Ральф Роуган. Вернее, даже не умер, а покончил самоубийством. Он намешал щелока в огромный стакан с джином и выпил эту адскую смесь, сидя на краю ванны. Миссис Роуган устроилась на работу на завод Форда. Том стал главным мужчиной в семье, хотя ему было всего одиннадцать лет. И если он не менял пеленок младшему брату, кривил при этом лицо, если он забывал сходить за маленькой Меган в детский сад или перевести ее через улицу, а любопытная миссис Гант докладывала о том матери, когда та приходила с работы; если случалось, что он смотрел по телевизору «Американскую эстраду», а между тем Джо устраивал кавардак на кухне; если случались эти и тысячи других огрехов, тогда после того, как младших детей укладывали спать, мама доставала специальную палку для битья и принималась ею охаживать старшего сына, всякий раз приговаривая: «Вот тебе, вот тебе».
Лучше самому лупить, чем быть мальчиком для битья.
Эту истину Том усвоил крепко.
Он просунул руку в петлю ремня и затянул ее. Как раз по руке, очень удобно. И чувствуешь себя и впрямь, как строгий наставник. Кожаный ремень, свисавший с его кулака, походил на мертвого удава. Головная боль прошла.
Бев откопала в глубине ящика последний интимный предмет: старый белый хлопчатобумажный бюстгальтер с огромными полушариями. У Тома мелькнуло подозрение, что среди ночи ей звонил любовник, но только мелькнуло и сразу вылетело из головы. Глупости, смешно даже подумать. Женщина, уезжающая к любовнику, не станет укладывать в чемодан такие допотопные блузки и комбинации. А потом она попросту не посмеет.
— Беверли, — тихо позвал он.
Она вздрогнула от неожиданности, резко обернулась, глаза ее широко раскрылись, длинные волосы взметнулись в сторону.
Ремень замер в нерешительности… Том чуть опустил руку. Он уставился на жену, чувствуя, как прихлынула кровь к щекам: ему стало отчего-то неловко. Такой вид был у Бев перед большими показами мод, и в такие минуты он старался ей не мешать: он понимал, что ее переполняло смешанное чувство страха и соревновательной агрессивности. Образно говоря, как будто ее голова заполнена светильным газом: малейшая искра — и она взлетит на воздух. Бев не усматривала в этих выставках мод возможность отделиться от компании «Делия Фэшнс», самостоятельно зарабатывать деньги, может, даже большие. Если бы все упиралось в это, она бы преуспевала. Но в то же время тогда бы она не была столь чертовски талантлива. Она относилась к этим показам как к своему главному в некотором смысле экзамену, где ее будут аттестовывать немилосердно строгие учителя. В такие минуты люди представлялись ей какими-то безликими существами. У них не было лиц, зато были авторитет и власть.
Вот и теперь широко раскрытые глаза свидетельствовали о нервозности в присутствии авторитета. Нервозность не просто читалась на ее лице, она окружала ее, создавая вокруг почти зримую ауру, некий заряд высокого напряжения, отчего Бев казалась еще привлекательней и в то же время опасней для него, Тома, гораздо опасней, чем за все годы их совместной жизни. Это не могло не пугать Тома: в эти минуты раскрывалась ее подлинная, главная сущность, столь не похожая на ту, которую культивировал в ней Том.
У Беверли был возмущенный и одновременно испуганный вид. Она заметно оживилась, на лице появилось какое-то безумно-радостное выражение. На щеках вспыхнул нездоровый румянец, но под нижними веками остались две чистые белые полоски: казалось, это вторая пара глаз. Кожа на лбу отливала кремовым цветом.
У нее во рту по-прежнему была сигарета, только теперь она торчала вверх: можно подумать, Беверли подражала Франклину Рузвельту. Ох, эта сигарета! При одном ее виде Том чувствовал, как его зеленой волной захлестывает тупая ярость. Где-то в отдаленных уголках его памяти сохранилось смутное воспоминание.
Как-то ночью из темноты Беверли вдруг обратилась к нему и произнесла вялым, невыразительным голосом: «Как-нибудь ты захочешь меня убить, Том. Ты знаешь об этом? Как-нибудь ты захочешь зайти слишком далеко, и тогда конец. Ты сорвешься и лопнешь». Он ответил тогда: «Делай, как я хочу, Бев, и этот день никогда не наступит».
Теперь, не успела еще ярость вытеснить в его сознании все остальные чувства, Том подумал: а может, этот день уже наступил.
«Сигарета! Черт с ним, с этим звонком, чемоданом, со странным, диким выражением лица! Итак, я займусь сигаретой. А после урока трахну ее в постели. Ну а потом можно обсуждать все остальное. Пока это не так уж важно».
— Том, — проговорила она. — Том, я должна…
— Ты куришь, — перебил он. Голос его, казалось, доносился издалека, будто из хорошего радиоприемника. — Ты, похоже, забыла, детка. Где ты их прячешь?