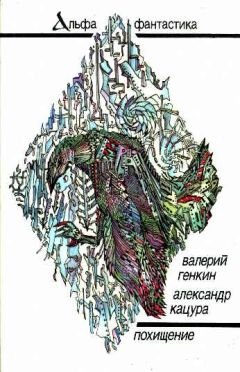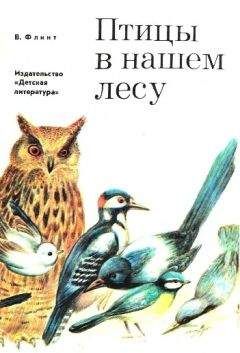Он заплакал. Уткнулся лицом мне в грудь. Кривясь, я одной рукой гладил его. Нервно смотрел по сторонам. Мне было стыдно за себя и за сына-плаксу. Сам я никогда не плакал. Двое подростков в черных кожаных куртках, стоявших у мотоцикла, взглянули на нас. Один показал пальцем. Заржали. Я стыдливо отвел глаза.
— Как ты проваливаешься? — я облизнул губы.
— Голова кружится, — Юра посмотрел куда-то вдаль, словно огненное, черное, как резина, колесо и сейчас кружилось в жарком воздухе. — Во рту невкусно. Как пепел. Мне что-то показывают.
— Что показывают?
— Я не знаю! — закричал Юра. Сжал виски ладошками. — Не помню! Зачем ты меня мучаешь? Зачем вы оба меня мучаете? Ненавижу вас, уроды, ненавижу!
Слышать такое из уст моего робкого, нежного сына — кошмар! Я вздрогнул, вспомнив, что „уродом“ во вчерашней ссоре меня назвала Катя. Уродом и еще кем-то. Я тоже придумал для нее множество разных наименований.
— Успокойся, пожалуйста.
— Прости, папа, — Юра снова хлюпнул носом. Я положил ладонь ему на плечо.
— Тебе есть еще что мне рассказать?
Юра молчал. Замкнулся. Я знал, в будущем это принесет ему немало проблем. Меня вновь охватило сводящее с ума желание ударить его. Я глубоко вдохнул и выдохнул.
— Сынок, ты должен доверять мне.
Юра судорожно кивнул и, как тонущий гребет к берегу, выдавливал из себя переживания:
— Показывают разные фигуры… квадраты, треугольники, круги. Места. Замки, озера. Как на картинке у мамы в комнате. Будущее.
— Будущее? — смеющиеся рожи вокруг вдруг показались мне отвратительными обезьяньими мордами.
— Мама сидит в кресле. Неподвижно. Ей плохо. Мнет в руках фотографию.
— Чью?
— Не знаю! — Юра осекся. Понизил голос. — Там был ты.
Я нервно рассмеялся. Погладил его по голове.
— Ты стоял на сцене в белой одежде. Выступал перед большой кучей людей.
— Толпой, — поправил я.
— Перед толпой, — Юра — чудо! — улыбнулся. — Ты говорил… что-то о воде.
— О воде?
Юра нахмурил лоб. Он изо всех сил пытался вспомнить.
— Ты сказал: „Пейте воду!“ — он улыбнулся, довольный собой. Я же ощущал неприятный холодок по спине.
— Юра, кто все это показывает?
Сын наградил меня недоверчиво-осуждающим взглядом.
— Зачем спрашиваешь? Ты ведь знаешь.
— Нет.
— Да, — сказал Юра гордо и чопорно. — Знаешь. Черный Капюшон.
Я облизнул губы.
— Когда он приходил? Он говорил что-нибудь?
— Д-да, — Юра с трудом кивнул. — Он сказал, что приходит раз в сто лет, чтобы наказывать плохих людей. Но Он пока всего лишь призрак. Ему нужен человек, в которого Он сможет воплотиться. Тогда Он сможет провести ре-пе-ти-цию.
— Репетицию чего?
— Большого Суда, — Юра со страхом взглянул на меня. Со страхом и надеждой. — Ты ведь знаешь, о чем Он?
— Знаю, — соврал я. Мой сын смотрел на меня. Вновь от его взгляда мне стало не по себе. Будто из тебя высасывают жизнь.
— Нет, — он покачал головой. — Ты не знаешь.
Я потер лоб. Слух резали звуки: грохот поп-музыки, от которого позвоночник ссыпался в брюки; грубый обезьяний хохот; пьяные, визгливые голоса. Высокий тощий парень, разодетый под скомороха (если можно себе представить скомороха в вылинявших джинсах) фальшивым баритоном зазывал поучаствовать в дурацком бесплатном конкурсе.
Юра протяжно вздохнул.
— Обычно это происходит в туалете. Однажды я „провалился“ у всех на глазах. После обеда. В детском саду.
Он посмотрел вдаль. Я представил, как дети возятся в песочнице, носятся вокруг горки, лазают на „паутинке“. И вдруг мой сын, печальный, слабый, безмолвно сидящий в гордом одиночестве, опрокидывается навзничь. Закатывает глаза. Начинает биться в припадке, как выброшенная на берег рыба.
Дети бросаются врассыпную с радостными воплями: „Рыба сдохла! Рыба сдохла! Отравился и не подавился!“ Воспитатели с обескровленными лицами, наоборот, сбегаются, как ведьмы на шабаш. Склоняются, хлопочут, перекрывая кислород. Паникуют: „Положите что-нибудь под язык! Врача! Скорее!“ Может, даже матерятся при детях.
А мальчик всего-навсего… провалился в дыру.
— Они надо мной смеялись, — сказал Юра, глядя в никуда. — Тыкали пальцами, обзывались… я подслушал разговор взрослых. Они сказали, что я… при-па-доч-ный.
Он встряхнулся и, оттолкнувшись ручками, соскочил со скамьи.
— Нам нужно идти.
Я встал.
— Ты хочешь домой? Хочешь в туалет?
— Нет. Мама. Соскучилась.
— А может, погуляем?
Юра помотал головой.
— Я хочу к маме.
— Как скажешь, — я взял его маленькую холодную ладошку.
На обратном пути смотрел под ноги, пережевывая, перемалывая скрипучими мозгошестернями тяжелые думы. Холод и Тьма начали поглощать меня.
Из Тьмы меня выдернул чей-то истошный вопль: „Осторожно!“
Вздрогнув, я с ужасом осознал, что стою на перекрестке, вокруг теснят люди, испуганные, с перекошенными лицами. С вылезшими из орбит глазами. Тупо озираюсь, будто спросонья. Замечаю, сына нет. Юра куда-то пропал, сорванец эдакий. Из темных глубин океана выплыла мысль о Кате.
Ох и попадет мне от жены!
Глупо улыбаясь, ловлю на себе испуганные, ошарашенные, сочувствующие взгляды.
Замечаю бежевый „рено“, косо вставший поперек полосы, с распахнутыми крыльями. На капоте вмятина, по стеклу ветвятся трещины. Рядом водитель в кожаном кепи и замшевой куртке. Плечи опущены, лицо мертво. Смотрит на меня и медленно отходит, качая головой. Губы беззвучно шевелятся.
— Что вы хотите? — дружелюбно осведомляюсь я.
И вижу. Наконец-то вижу. Улыбка медленно исчезает. Я смотрю на неподвижное тело ребенка, с неправдоподобно подвернутыми ногами, со смещенным вбок тазом, с кровавой пеной на пухлых детских губах. Под затылком натекла розовая лужа. Стекленеющие глаза осуждающе таращатся в небо.
Все к этому и шло, думаю я. Для этого я и женился на Кате.
Я позвонил жене с таксофона. Она выслушала с удивительным спокойствием. Задавала какие-то странные вопросы:
— Сбила машина? Какого цвета? Юру? Нашего Юру? Точно?
Я сбивчиво, путано и как-то не по-русски объяснял, что произошло. Мы орали, потому что со связью что-то случилось, и оба почему-то не могли понять простейших реплик. Наконец Катя отрезвила:
— Ладно. Возвращайся домой. Я буду ждать. Пока ничего не пойму, что ты бормочешь.
Связь оборвалась. Я поспешил домой, так, словно по моему следу пустили бешеных собак. Боялся, что Катино спокойствие — игра и фальшь, что она вот-вот наложит на себя руки, уже накладывает, и почему-то все в башке мысли крутились, типа, смертный грех, несмываемый позор и тра-ля-ля.