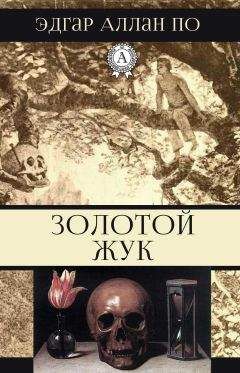никаких удовлетворительных сведений. Откуда он прибыл, я никогда не мог узнать. Даже касательно его возраста – хотя я и назвал его молодым джентльменом – я должен сказать, что было в нем что-то, весьма меня смущавшее. Конечно, он
казался молодым – и он даже особенно охотно говорил о своем молодом возрасте, – случались, однако, моменты, когда для меня не было никаких затруднений представить, что ему лет сто. Но ни в каком отношении не был он столь особенным, как в своей наружности. Он был необыкновенно высок и тонок. Очень сутуловат. Ноги у него были необыкновенно длинные и исхудалые. Лоб широкий и низкий. Лицо совершенно бескровное. Рот большой и подвижный, а зубы хотя и здоровые, но такие неровные, что подобных зубов я никогда раньше не видал в человеческих челюстях. Улыбка его, однако, отнюдь не была неприятной, как можно было бы предположить; она только никогда не менялась в выражении. Это была улыбка глубокой печали – беспеременной и беспрерывной мрачности. Глаза у него были ненормально большие и круглые, как у кошки. И самые зрачки, при усилении или уменьшении света, сокращались и расширялись именно так, как мы это наблюдаем у представителей кошачьей породы. В минуты возбуждения они делались блестящими до неправдоподобности; от них исходили блистательные лучи как бы не отраженного, а внутреннего света, как это бывает со свечой или солнцем; но в своем обыкновенном состоянии они были такими тусклыми, тупыми и настолько закрытыми пеленой, что возбуждали представление о глазах давно зарытого трупа.
Эти внешние особенности причиняли ему, по-видимому, много неприятностей, и он постоянно намекал на них, в тоне наполовину изъяснительном, наполовину оправдательном, что в первый раз, когда я его услыхал, произвело на меня крайне тягостное впечатление. Вскоре, однако, я к этому привык, и ощущение неловкости исчезло. По-видимому, его намерением было не столько прямо заявить, сколько дать почувствовать, что физически он не всегда был тем, чем стал, что долгий ряд невралгических припадков низвел его от более чем обычной красоты до того состояния, в котором я его увидел. В течение многих лет его лечил врач по имени Темпльтон – старик лет, быть может, семидесяти, – он встретил его впервые в Саратоге и получил от него – или вообразил себе, что получил от него, – значительное облегчение. В результате Бэдло, бывший человеком состоятельным, договорился с доктором Темпльтоном, что этот последний, ежегодно получая щедрое вознаграждение, будет посвящать свое время и свои медицинские познания исключительным заботам о нем.
Доктор Темпльтон в юности много путешествовал и во время пребывания в Париже в значительной степени сделался приверженцем доктрин Месмера. Острые боли своего пациента ему удалось смягчить исключительно с помощью магнетизма; и успех этот, естественно, внушил больному известную веру в те идеи, из которых выводились средства врачевания. Доктор, однако, как все энтузиасты, делал все усилия, чтобы совершенно обратить своего ученика, и в конце концов это ему удалось настолько, что он убедил больного подвергнуться многочисленным опытам. Частым их повторением был обусловлен результат, за последнее время сделавшийся столь обычным, что он уже почти не обращает на себя внимания, но в тот период, к которому относится мой рассказ, бывший большою редкостью в Америке. Я хочу сказать, что между доктором Темпльтоном и Бэдло мало-помалу возникло вполне отчетливое и сильно выраженное магнетическое соотношение. Не буду, однако, утверждать, чтобы это соотношение выходило за пределы простой усыпляющей силы; но эта сила достигла большой напряженности. При первой попытке вызвать магнетическую дремоту месмерист потерпел полный неуспех. При пятой пли шестой успех был крайне частичным и получился лишь после долгих усилий. Только при двенадцатой попытке успех был полный. После этого воля пациента быстро подчинилась воле врача, так что, когда я впервые познакомился с обоими, сон вызывался почти мгновенно, силою простого хотения со стороны оперирующего, если больной даже и не знал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году, когда подобные чудеса подтверждаются ежедневными свидетельствами тысяч людей, дерзаю я рассказывать об этой видимой невозможности как о серьезном факте.
Темперамент у Бэдло был в высшей степени впечатлительный, возбудимый и склонный к энтузиазму. Воображение его было необыкновенно сильным и творческим; и нет сомнения, что оно приобретало дополнительную силу, благодаря постоянному употреблению морфия, который он принимал в большом количестве и без которого он, казалось, не мог бы существовать. Он имел обыкновение принимать большую дозу тотчас после завтрака, каждое утро – или, вернее, тотчас вслед за чашкой крепкого кофе, так как до полудня он ничего не ел, – после этого он отправлялся один или же в сопровождении лишь собаки на долгую прогулку среди фантастических и угрюмых холмов, что лежат на запад и на юг от Шарлоттесвилля и носят наименование Извилистых гор.
В один тусклый теплый туманный день, на исходе ноября, во время того странного междуцарствия во временах года, которое называется в Америке индийским летом, мистер Бэдло, по обыкновению, отправился к холмам. День прошел, а он не вернулся.
Часов около восьми вечера, серьезно обеспокоенные таким долгим его отсутствием, мы уже собирались отправиться на поиски, как вдруг он появился перед нами, и состояние его здоровья было такое же, как всегда, но он был возбужден более обыкновенного. То, что он рассказал о своих странствиях и о событиях, его удержавших, было на самом деле достопримечательно.
– Как вы помните, – начал он, – я ушел из Шарлоттесвилля часов в девять утра. Я тотчас же отправился к горам, и часов около десяти вошел в ущелье, совершенно для меня новое. Я шел по изгибам этой стремнины с самым живым интересом. Сцена, представшая передо мной со всех сторон, хотя вряд ли могла быть названа величественной, имела в себе что-то неописуемое и для меня пленительно-угрюмое. Местность казалась безусловно девственной. Я не мог отрешиться от мысли, что до зеленого дерна и до серых утесов, по которым я ступал, никогда раньше не касалась нога ни одного человеческого существа. Вход в этот провал так замкнут и в действительности так недоступен – разве что нужно принять во внимание какие-нибудь случайные обстоятельства, – так уединен, что нет ничего невозможного, если я был действительно первым искателем – самым первым и единственным искателем – когда-либо проникшим в это уединение.
Густой и совершенно особенный туман или пар, свойственный индийскому лету, и теперь тяжело висевший на всем, несомненно, способствовал усилению тех смутных впечатлений, которые создавались окружавшими меня предметами. Этот ласкающий туман был до такой степени густой, что я не мог различать дорогу перед собой более чем