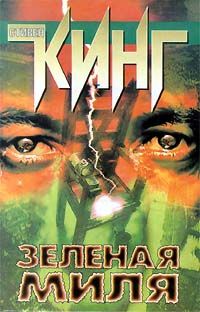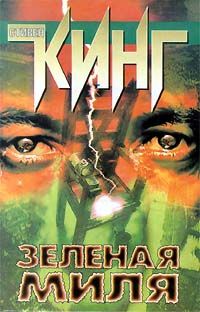— Они берут только самых умных мышей, — предупредил Зверюга. — Тех, что умеют показывать трюки. И не берут белых, потому что их держат в домах.
— Конечно, кому нужны домашние мыши! — яростно воскликнул Делакруа. — Я ненавижу этих белых мышей!
— У них там такой шатер, куда можно войти… — Зверюга импровизировал на ходу.
— Да, да, как цирк! Чтобы войти туда, надо заплатить?
— А ты как думал? Разумеется, надо заплатить. Десять центов со взрослого, два — с ребенка. А в шатре целый город из бакелитовых коробок и рулонов туалетной бумаги. Обнесенный стеной из плексигласа, поэтому зрители видят, что происходит внутри.
— Да! Да! — Делакруа не находил себе места от радости. Он повернулся ко мне. — А что такое плексиглас?
— Специальное небьющееся стекло.
— Да, конечно. Конечно, небьющееся! — Он протянул руку с катушкой к Зверюге, как бы призывая того продолжать. Мистер Джинглес привстал на задних лапках, его черные глаза-бусинки не отрывались от раскрашенной катушки. Зрелище они представляли презабавное. Перси подошел поближе, словно хотел получше их разглядеть. Я заметил, как хмурится на него Джон Коффи, но разыгравшаяся фантазия Зверюги слишком захватила меня, чтобы я смог обратить на это должное внимание. Все-таки не очень легко напрочь отвлечь приговоренного к смерти от мыслей о скорой казни. Так что выдумка Зверюги не могла не вызвать у меня восхищения.
— Конечно, им нравится весь город, но дети больше всего любят мышиный цирк, где мыши качаются на трапециях, перекатывают бочонки, складывают монеты…
— Да, это и нужно! Лучшего места для Мистера Джинглеса не найти! — Глаза Делакруа сверкали, щеки раскраснелись. Будь моя воля, я бы произвел Зверюгу в святые. — Ты все-таки попадешь в цирк, Мистер Джинглес! Будешь жить в мышином городе во Флориде! С плексигласовыми стенами! Ур-ра!
Катушку он бросил слишком сильно. В стену она ударилась низко, отскочила и выкатилась между прутьев решетки на Зеленую милю. Мистер Джинглес бросился за ней, и Перси своего шанса не упустил.
— Нет! — взревел Зверюга, но Перси его словно и не слышал.
Как только Мистер Джинглес добрался до катушки, она полностью приковала к себе его внимание, и он начисто забыл про давнего врага. И тут Перси опустил на мышонка тяжелую подошву. Отчетливо хрустнул ломающийся позвоночник Мистера Джинглеса, кровь хлынула из его рта. Маленькие черные глазки вылезли из орбит с застывшим в них выражением агонии, совсем как у человека.
Делакруа заголосил от ужаса и боли, бросился на пол, протягивая руки к мышонку, вновь и вновь повторяя его имя.
Перси улыбаясь повернулся к Делакруа. К нам троим.
— Вот и все. Я знал, что доберусь до него. Рано или поздно. Как говорится, вопрос времени. — Он повернулся и не торопясь зашагал по Зеленой миле.
Мистер Джинглес остался лежать на линолеуме в луже собственной крови.
Часть четвертая
Скверная смерть Эдуарда Делакруа
Помимо мемуаров, я пишу дневник, который завел после того, как поселился, в Джорджия Пайне. Ничего особенного, пара абзацев каждый день, главным образом о погоде. Вчера вечером я его пролистал. Хотел посмотреть, сколько прошло времени с той поры, как мои внуки, Кристофер и Дэниэль, засадили меня в Джорджия Пайне. «Для твоей же пользы, дед», — убеждали они меня. А что еще я мог от них услышать? Разве не эти слова обычно произносят люди, если хотят избавиться от ходячей и говорящей обузы?
Оказалось, чуть больше двух лет. Самое удивительное, что я не могу сказать, как я ощутил эти годы. Долго они тянулись или пролетели, словно миг. Мое чувство времени как бы размякло, будто слепленный детьми снеговик на мартовском солнце. Времени, к которому я привык (стандартное восточное, световое, рабочее), более не существует. Здесь только джорджияпайнсское время, оно же стариковское, старушечье, и время ссать в постель. Остальное… кануло в Лету.
Джорджия Пайне — чертовски опасное место. Поначалу этого не понимаешь, поначалу думаешь, что место это скучное, а опасности здесь не больше, чем в яслях в тихий час, но тут очень опасно — я знаю, о чем говорю. Со времени моего переезда сюда я повидал многих, постепенно впадавших в старческий маразм, а иной раз и не постепенно, а разом, словно подлодка, камнем идущая ко дну. В Джорджия Пайне приезжали нормальные люди, пусть с затуманенным взглядом и опирающиеся на палку, но в остальном безо всяких отклонений… и что-то с ними случалось. Месяц спустя они уже сидели в телевизионной комнате, тупо глядя на Опру Уинфри, с отвисшей челюстью, забыв про стакан с апельсиновым соком, что трясся в руке. Еще через месяц им приходилось подсказывать имена детей, когда те их навещали. А уж на третий они забывали даже собственные имена. Что-то с ними происходило: так на них действовало джорджияпайнсское время. Оно здесь как слабый раствор кислоты, который разъедает сначала память, а потом и желание жить.
Со временем надо бороться. Об этом я говорю Элейн Коннолли, моей закадычной подруге. Мне заметно полегчало, когда я начал писать о том, что случилось со мной в 1932 году, том самом, когда на Зеленой миле появился Джон Коффи. Некоторые из воспоминаний омерзительны, но они обостряют память точно так же, как нож затачивает карандаш, и поэтому боль, вызванную ими, можно и потерпеть. Писать и вспоминать, однако, недостаточно. У меня есть еще и тело, старое, дряблое, но другого нет и не будет, и поэтому я стараюсь держать его в тонусе. Первое время мне это давалось с трудом, старику не так-то легко уговорить себя на физические нагрузки, но теперь мне стало проще, ибо мои прогулки обрели цель.
На первую прогулку, чуть ли не каждый день, я выхожу из дома до завтрака, как только рассветает. В то утро шел дождь, от сырости ныли суставы, но я взял накидку с вешалки у кухонной двери и все равно отправился погулять. Когда у человека есть дело, он должен его сделать, а если у него что-то болит, это его проблемы. Опять же, кроме минусов, есть и плюсы. Главный — причастность к реальному времени, столь отличному от местного, джорджияпайнсского. И я люблю дождь независимо от того, болит у меня что-то или нет. Особенно ранним утром, когда только начинается день, полный разнообразных возможностей даже для такого немощного старика, как я.
Я миновал кухню, выпросив у еще сонного повара два гренка, и вышел из дома. Пересек крикетную площадку, потом зеленую лужайку и углубился в рощу. Узкая извилистая тропа вела к двум сараям, которые уже давно не использовались и медленно разрушались. Я шагал не спеша, прислушиваясь к шуму дождя, поливающего сосны, пережевывая кусочки гренка несколькими оставшимися зубами. Ноги болели, но я не обращал на это внимания: тупую боль можно и потерпеть. А в общем, я пребывал в приподнятом настроении и вдыхал напоенный влагой воздух полной грудью, словно хотел, чтобы он насытил меня.