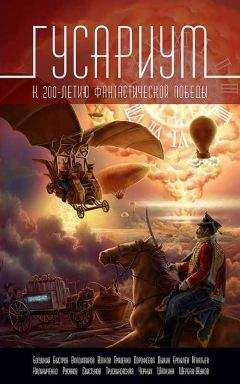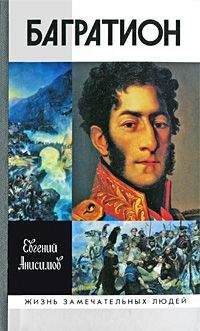Командир задумчиво покусывал трубку.
Переданное мной накануне известие о смерти Багратиона погрузило Денисова в меланхолию. Он ничем не желал выдавать этого, но мы знали, как дорог был ему Багратион, как много сделал он для нашего партизанского дела, вызывавшего столько критики и пересудов в штабных кругах.
Задумчивое молчание Денисова было прервано конским ржанием за окном. Последовала серия возгласов, следом в двери настойчиво постучал часовой.
Оказалось, казачий пикет, стоящий на проселочной дороге из Дорогобужа в сторону села Лычевка, известил о приближении неприятельских колонн.
Такого количества французов нам еще не приходилось встречать в своих краях. Разбивая в пух и пленяя разрозненные группы фуражиров и отставших от армии мародеров, мы почитали себя хозяевами области. И вдруг прямо посреди наших земель марширует чуть ли не целый полк, сопровождаемый конной батареей и снующими окрест разъездами конных стрелков.
Как переменился Денисов! Вся его мрачность рассеялась. Процедил: «Вот и случай отдать почести праху героя!» Принялся рассылать вестовых, давать распоряжения, руководить приготовлениями к «Делу».
Хорунжий Еремеев вызвался достать «языка». Толстяк с бравыми рыжими усами, малиновыми щеками и маленькими, хитрыми глазками — он смахивал на маркитанта. Ему, казалось, более подошел бы колпак с кистью и засаленный передник, чем мохнатая казачья шапка с алым шлыком и серебряной чешуей и курчавая бурка, вздымающаяся повыше плеч двумя черными рогами. Это был самый отчаянный и опытный из разведчиков нашей партии.
Я упросился ехать с ним. Хотелось развеяться после гнетущего ночного разговора, после смерти поручика.
Еремеев согласился. У нас были хорошие отношения. Как-то он поведал мне о своей заветной мечте. Показал медальон, скрывавший маслом писанный портрет. Сперва я думал, что речь пойдет об амурной страсти, но пригляделся… Орлиный профиль, знакомая на весь свет шляпа. Еремеев объяснил, что с самого начала войны возит с собой этот портрет на случай, если представится шанс сверить личности, чтоб не вышло ошибки. Ухватить за шиворот самого антихриста, пленить его и доставить в штаб — самая заветная его мечта.
Я понимал его.
Провожать нас вышел лично Денисов.
— Не горячись, Вихров… Петра Иваныча жаль. И спасителя твоего бородинского жаль… Но мертвых обратно не воротить. А живые нам теперь — каждый человек на счету. На рожон не лезьте.
— Слушаюсь, господин подполковник!
— И вот еще… Про Ржевского. В Павлоградском полку я всех офицеров поименно знаю. И, знаешь что, корнет… Никакого Ржевского там отродясь не было.
Денисов похлопал меня по плечу, направился обратно в избу, готовить встречу неприятельским силам, идущим на Лычевку. Кем бы ни был на самом деле «поручик Ржевский» — рассказ его, хоть частично, начинал подтверждаться.
Оставалось лишь надеяться, что он не подтвердится в остальном…
* * *
Мы с Еремеевым вели коней на поводу, по мягкому мху, стараясь ступать неслышно, задрапированные хвойными ветвями, будто какие рождественские щелкунчики, обознавшиеся сезоном.
Вокруг была осень, в запахах прелой листвы и грибов, в дрожании золотой и багряной листвы на промозглом ветру. На миг между туч проглянула чистая синева, но затем вновь всё вскрыла тяжелая синяя завеса. Заморосил дождь.
Мы следовали параллельно проселку, не сводя глаз с дороги. Находились примерно на середине пути между французским отрядом и Лычевкой.
Скрип каретных спиц и плеск бочажков под копытами лошадей мы заслышали издали.
Молча переглянулись. Я кивнул, мол, готов…
На козлах кареты, снабженной строгим армейским гербом с непременной бонапартовской N, отчаянно нахлестывая лошадей, сидел совершенно экзотический тип. Красногубый, иссиня-черный африканец, в изумрудных чалме и шальварах, в расшитой золотом алой венгерке.
Непривычно было видеть такого щеголя посреди пасмурного осеннего ненастья. Сами мы давно сменили блестящие шнуры и лоснящийся мех форменных ментиков на неприметную серость походных шинелей и накидок, на крестьянские бекеши и косматые бурки. Повеление самого Денисова, в первые дни «малой войны» захваченного крестьянами, принявшими его за француза. Они угрожали скорой расправой, потрясая топорами и рогатинами. В ответ наш командир, возмущенный таким сравнением, обложил их отборной русской бранью. Тем и спасся от недоразумения.
Но африканцу было не до маскировки. С силой нахлестывая лошадей, он вздымал колесами кареты веера грязных брызг, гнал вперед, рискуя разбиться на очередном ухабе. Никакого прикрытия у кареты не было.
Соблазн был слишком велик. Не сговариваясь, мы с хорунжим вскочили в седла. Пустили лошадей вскачь — наперерез карете.
Мамелюк на козлах заполошно оглянулся, сверкнув белками.
Одной рукой он продолжал править, в другой возник длинный пистолет.
— Еремеев, берегись! — крикнул я, пригибаясь к холке лошади.
Африканец обернулся вторично, будто до крайности удивленный моим возгласом. Затем поступил странно — выпалил в воздух, отбросил пистолет и заголосил, натягивая вожжи:
— Братцы, не погубите! Я СВОЙ! Чуть за хранцев не принял сослепу!
Удивлению моему не было предела. Мы поравнялись с каретой.
Я глянул на Еремеева. У того на красном лице читалась сложнейшая гамма чувств.
— Феофан! Собачий хвост, пропажа! — загорланил хорунжий. Обернулся ко мне. — И впрямь из наших! Кашеварил в Бугском полку. Сказывали — зарублен неприятелями.
Африканец продемонстрировал превосходные зубы:
— Еремеев, друг сердешный! Сколько зим!
Карета меж тем замедляла ход. Лошади, обезумевшие от долгой отчаянной скачки, устало фыркали, поводя острыми ушами.
Хорунжий расхохотался:
— Стало быть, жив курилка?
— Истинно так, батюшко, — ответствовал мамелюк. — Сгубил меня черт, сам знаешь, грешен я — слаб ко хмелю. Как пошли мы в ту вылазку, это уж после Смоленска было, при отступлении — сам знаешь, в такие времена лишней капли не перепадет нашему брату. А тут… открыли мы цельный обоз отборных итальянских вин. Самого, стало быть, вице-короля. Уж не удержался, грех на мне… Так и попался карабинерам ихним. В самом скотском виде, прости господи!
— И что ж ты, — Еремеев указал на живописный мундир Феофана, — как хранцы сцапали, так в мамелюки подался, мать твою перетак?
— Чего городишь, дурень, окстись! По хмельному делу грешник — не отрицаю! Но в измене меня винить?! Едва как меня сцапали, сразу зарекся — ежели сразу не расстреляют, едва хмель развеется — дёру дам, к нашим. Эта бражка тальянская уж оченно в голову шибает — какой из меня рубака! Дайте, думаю, только протрезветь — ужо я покажу хранцу, и уж само собой ни капли больше, вот те крест! Но повернулось-то совсем сказочно…