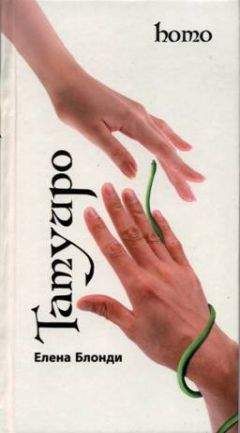И тогда поскакал промокший заяц через лес и поляны, через степь и вдоль берега реки, через деревню к морю, закричал:
— Слушайте все! Нет больше девушки Айны и нет Еэнна. Большая Матерь выходит на дневное небо, а ночью сменяет её в чёрном небе Большой Охотник. Весь год будут служить они людям и зверям. Кормить траву светом и укрывать гнезда тьмой. А ко времени Длинных Дождей там, за тучами, стелет Большая Мать облачные покрывала и ждёт домой Большого Охотника. Только за тучами встречаться им. Такое им счастье. И нам так жить.
Слушали зайца люди, кивали. С тех пор, как появилась на земле ночь и пришла в мир смерть, стали они серьёзнее и умнее. И такое бывает счастье, понимали они. И согласились, что так — правильно.
С тех пор каждый год приходят на землю Длинные Дожди и идут две луны от полного лика Большого Охотника до второго полного лика его.
Время любви и терпения — для всех.
===
Деревенский ведун Тику был таким, будто кто-то взял старого за шиворот, повертел и попробовал спеть его. Песня вышла корявая, голос, что пел, то поднимался к веткам деревьев, а то нырял в мышиные норы, бормоча и заикаясь.
Тику сидел на ворохе мягких листьев, подвязанных лианами в кривой тючок, подогнув под себя короткую жилистую ногу, а другую вытягивая перед собой. Дрожащий свет жирника падал на шевелящиеся пальцы и острое колено, а дальше всё было в тени.
За стенами большого дома шёл правильный дождь, через два выпрошенных женщинами дня он начался под утро, и теперь всё снова было, как надо. И дети пришли: от совсем маленьких, которых матери привели в первый раз, крепко держа за руку и оттаскивая от жиденьких перилец мостков, до тех, кому последний раз слушать старого Тику, его легенды и уклады, учить заклинания для жизни и знать то, что должен знать каждый лесной человек.
— Так повелось от начала времен и так будет всегда, — сказал Тику детям, полукругом сидящим на полу, — крепко помните сказ о Большой матери и Большом Охотнике. И идите уже.
Дети шептались, кто-то толкнул соседа локтем под бок, тот вскрикнул и рот прикрыл рукой. Тику подтянул ногу, обхватил руками колено, потёр. Кости ноют и будут ныть всё время, пока идут дожди, хорошо успели молодые перекрыть заново крышу, хоть не мокро спать. Вспомнив, что не позвал матерей, ведун поднялся, кряхтя.
— Сидите ещё.
И пошёл, размахивая кривой рукой и припадая на искалеченную ногу, но не к выходу, откуда шептал дождь, а внутрь, в узкий коридорчик. Прошёл в каморку, где лежали припасы. В своём доме Тику всё знал наизусть, а особенно тайный угол, куда и ярким днём не доставал свет. Нащупал циновку, откинул и достал большую тыкву с узким горлом. Потряс и приложил к уху. Внутри, проснувшись, зашевелилось, постукивая о стенки, легонько, как ночные летуны-кровососы.
— Ну-ну, — сказал Тику с довольным смешком. Открыл рот и опрокинул в него узкое горло сосуда. Вторую руку, сложив ладонь ковшом, придерживал у подбородка, чтоб не выпали мимо размокшие кусочки коры, смятые листики и длинные волосяные травинки. И чтоб детки болотника, которые правильно развелись и росли в приготовленном зелье, не шмыгнули мимо рта.
После трех глотков оторвал бутыль и прислушался к себе. В голове запищало тонко и весело, а воздух перед глазами расшили огненные травинки.
«Как мушкам фонарики дарены», — подумал Тику, ухмыляясь щербатым ртом. И представил себе мушек — маленьких, прозрачных, с весёлыми глазками и тоненькими ручками, в каждой по светильничку крошечному, ручками машут, крылышками трепещут.
«Мушечки мои»… Снова поднёс ко рту и хлебнул, стараясь, чтоб глоток был побольше. Мушки так и замелькали перед глазами, а пол поднялся мягким бугром под босыми ногами, толкая в пятки.
Тику вытер губы и, сунув бутыль на место, закутал циновкой. Пусть стоит, зреет. Через день останется на донце два глотка гущи, тогда он сделает новый отвар, зальёт шевелящихся на дне болотничков еще раз. И пусть плодятся. Без света не вырастут, а только будут, как надо, разлепляться на две половинки и снова, снова.
Пол подтолкнул его к стене, которая дышала, выпячиваясь, шевелила у лица невидными листьями, что только вот выросли и щекочут. Тику провел рукой по листьям и пошёл обратно, через коридорчик, который чудесно превратился в зелёную тропу посреди ласкового леса. Шёл, молодой, стройный, и выжженный лесным пожаром глаз был на месте, и пробитая когтем щека снова цела, а сам — красавец, каким никогда не был. Впору песню запеть, чтоб услышала его любимая, встретила на пороге, смеясь.
Из большой комнаты слышались шум и возня, дети, соскучившись сидеть, тихонько дрались, и кто-то уже упал в круг, стукнувшись головой, заревел через прижатую ко рту чужую руку. А вокруг — смешки, всё громче.
— Ну-к-ка, — прикрикнул Тику, неровно проходя через сидящих, споткнулся, все смолкли, отодвигаясь, но сумел выпрямиться и побрёл дальше, к открытой двери.
На мостках постоял, качаясь, и, повиснув на перилах, прокричал срывающимся голосом крик для матерей:
— Да сохранит Мать… Большая Матерь… вас и дет-тей, идите и буддь-те спокойны. Все тутт.
И засмеялся счастливо, подставляя теплому дождю широкое одноглазое лицо с вырванной и криво зажившей щекой.
— Старый ворон, хрипит, ровно в лесу заблудился, — ругнулась в ближайшей хижине молодая женщина и выбежала на мостки, присоединяясь к другим, идущим вдоль перил.
А Тику ждал, крича снова и снова. Ему казалось, голос его звучен, как голос молодого ветра, трогающего речные колокольцы. И пусть утром он будет плакать от боли в горле, где сейчас копошились, сползая внутрь, маленькие болотники, но зато вечером снова достанет свою тыкву и будет счастлив.
— Да будет ночь твоя тихой, спасибо, учитель Тику, — дети проходили мимо, держась за руки матерей, и Тику, крича и булькая горлом, кивал им и поднимал вверх трясущуюся искривленную руку. Дождь лился на неровные космы волос и на лицо, стекал по редкой бороде, которую, как и положено ведунам, Тику не брил, капал на узкую грудь, чуть прикрытую ветхой тайкой.
— Да сохранят боги твой сон, учитель Тику…
— Да будет дождь для тебя тёплым, учитель Тику…
— До завтра, учитель Тику, пусть сны твои…
— Пусть рот твой не знает голода…
Крича в дождь, Тику не заметил, как все ушли и он остался один. Открыл рот, ещё крикнуть, но раньше крика послышался голос из-за спины:
— Помолчи, Тику.
Уцепившись за перила, повернулся и среди мушек с чёрточками огней, прищурясь, стал разглядывать гостя. Привалился спиной к жердям и стал сползать, кланяясь.