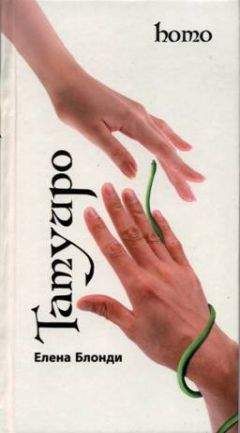Ничего, думал старый Тику, морщась от того, что лист щекотал ему угол рта, ничего. Зато вождь одарит его: как всегда, после бабочек, отдаст ему их крылья. И Тику сделает себе курево, настоящее. Ничего, что после нескольких затяжек ноги его будут ныть ещё сильнее, а руки перестанут разгибаться. Чтоб не болело, будет потом отта, свежая и весёлая отта-жена.
Летели выше и выше, в чёрное небо, и ветер протекал мимо, будто они — головой вниз в лёгкую, но тугую воду. Ветер давил лапой в макушку, волосы, облепив щёки, щекотали шею. Земля осталась на дне пропасти, и хорошо. Там — всё плохое, прижалось к стылой степи, утыканной кустиками высохшей полыни. И снежок сыплет у самого дна воздушной пропасти, потому что низкие тучи они пролетели. Должны быть тут звёзды, но их не было, не было и луны, а просто чёрная пустота и ветер.
— Страшно?
— Смеёшься? — и Найя рассмеялась сама, глотая вкусный воздух, как в детстве чистый лёгкий снег, набранный в застывшую руку.
— Забочусь…
Лицо его белело в темноте, и на нём — глаза только и были видны. И руки она чувствовала на своей талии. Подняла свои, медленно, пробуя, что может тут, в полёте, сделать, просунула к нему под мышки, обхватила за спину, притягивая к себе. Полностью, от ступней до груди, прижалась и вздохнула: так было хорошо. Ещё голову на грудь ему, да закрыть глаза, пусть заботится.
Так и летела, прижатая его и своими руками, его подбородок мягко упирался в макушку, и ветер уже не доставал, не давил. Только внутри гудело, потому что, неподвижные в пустоте, продолжали лететь.
— Витя… — сказала она обычное имя, туда, в расстёгнутую рубашку и сморщила нос, который щекотал уголок воротника. — Витя.
Не позвала, просто отметила словом.
— Лада, — нажимая подбородком на макушку, проговорил он. И она снова засмеялась.
— Нет. Теперь — Найя. Лада осталась там, в степи. Пусть её. Найя. Нравится тебе?
— Неважно… нравится или нет, совершенно неважно.
Найя попыталась приподнять голову, чтобы увидеть его лицо.
— С-соверш-шенно…
На неё смотрело лицо змеи, неподвижными глазами, двуострый язык показывался из розоватой пасти и прятался снова.
— Нет! Нет-нет! — она разомкнула руки, отталкивая от себя плотное круглое тулово, дёрнула ногой, вокруг которой заплетался гибкий хвост.
— Нет!
Перед глазами прорезался тусклый свет — длинными серыми полосами. Шум ветра стал мерным, льющимся, с редкими поверх него ударами-шлепками.
«Дождь, — она повернулась, выдёргивая из-под себя затекшую руку, — хижина, дождь. И — этот…»
Села, оглядываясь. И тихо заплакала, узнавая хижину со щелястыми стенами, набросанный по углам хлам, сутулую фигуру на корточках со свешенными руками, поодаль у стены. Плакала сидя, раскачивалась, обхватив рукой болевшее плечо со съехавшей повязкой.
— Да что же это… Теперь уже и во сне, в снах. Куда мне? Тут мокро, болит, тоска. Спать — страшно.
Мужчина поднял голову, проговорил что-то. Поднялся, сделал шаг, но не подошёл, остался стоять напряженно, не зная, что делать.
— Не хочу. Уйди, — она привалилась к стене и закуталась в сыроватую тайку. Дрожала.
Но он всё-таки подошёл, неся на вытянутых руках скомканную циновку. Встал поодаль, протягивая, чтоб могла взять сама. И как только взяла, резко отвернулся. Так и стоял, сгорбившись, и по спине в сереньком свете утра было видно: прислушивается к её движениям. Не вставая, она выпуталась из тайки, накинула сухое и закуталась до самого подбородка. Тайку хотела отбросить подальше, но, подержав в руке, спросила хриплым от слез голосом:
— Где посушить?
Акут повел плечами.
— Что молчишь? Вон мокро, если положить, заплесневеет. На, возьми…
И он повернулся, всё так же, не подходя, взял из её пальцев мокрую одежду и унёс в соседнюю каморку. Вернулся с миской, накрытой листом.
— Угу, — сказала Найя, — поели, поспали, посидели, снова поесть. Нормальная такая жизнь.
Отвернулась. Есть не хотелось. Хотелось спать, но возвращаться туда, где змеиные глаза смотрели на неё, не могла. Потому, посидев немного, перебирая высунутой из покрывала рукой мелкие веточки и листки на полу, вздохнула и протянула руку:
— Давай.
Рассматривая насыпанные в миску орешки, залитые тягучей массой, спросила:
— Это что? Как по-вашему будет?
— Мирит, — Акут присел рядом, тронул орехи пальцем. Найя поморщилась.
— Мирит, — он вынул орех, сунул себе в рот:
— Вкусно! Ешь!
— А это? — она потянула орешек высоко над миской, так что тягучий сироп повис дрожащей ниткой.
— Мирит эгоя.
— Ясно. Мирит, а на нем — эгоя. Сок, что ли, какой? Из дерева?
Выслушала длинное объяснение, в котором повторялись два узнанных слова, махнула рукой.
— Ладно. Пусть будет мирит с эгоей.
— Эгоя, — поправил мастер, глядя, как жуёт.
— Вкусно. А это как назвать? — она охватила миску пальцами, посмотрела на него с вопросом.
Акут ответил. Найя повторила. Ела, спрашивала, указывая испачканным пальцем, с которого тянулись дрожащие нити эгоя, паутины ночного паука. И мастер, внимательно ожидая следующего вопроса, поспешно отвечал, смотрел в лицо, проверяя, понятно ли, повторял снова и снова. Поправлял, если, запинаясь, говорила неверно. И кивал, когда у неё получалось.
Снаружи мерно лил дождь, слышались через него слабые, сонные звуки деревенского дня. Кто-то кричал, гремела посуда, вскудахтнула курица, а потом заорала сильно и смолкла.
— Суп будет у кого-то, — отметила Найя. Отставила миску и встала, утомившись сидеть. Придерживая покрывало, пошла к выходу, распахнула дверь. Дождь закрывал мир серым занавесом, и по нему крупными бусинами текло с маленького козырька над дверью.
— Похоже, надолго, ни одного просвета.
Услышала, что он подошёл сзади совсем близко, и сказала, не поворачиваясь, почти ласково:
— Ты учи меня языку, учи. А тронешь ешё раз, я тебя твоим же ножом зарежу, когда спать будешь, понял? Не понял, конечно…
Повернулась, уперла ему в грудь вытянутую руку, толкнула сильно. И Акут поспешно отступил, отворачивая лицо от сверкнувшей в её глазах ненависти.
— Вот выучишь меня, я тебе тогда всё и скажу, герой.
Она постояла перед нитками быстрых капель. Очень хотелось войти в теплый дождь, побыть под ним. Но намокнет мягкая циновка, и снова будет холодно ей в хижине. И она вернулась, стараясь не смотреть на осточертевшие стены.
— Хоть бы кончился дождь скорее, — пробормотала, идя к стене, на нагретое место, — в лес сходить или к реке.