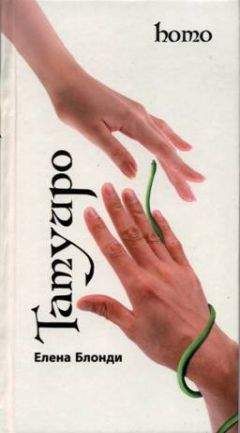— Хоть бы кончился дождь скорее, — пробормотала, идя к стене, на нагретое место, — в лес сходить или к реке.
И повернувшись, сказала, показывая на рот:
— Пить хочу.
Изобразила сложенной ковшиком ладонью, как зачёрпывает и подносит ко рту. Махнула в сторону дождя:
— Вода! Понял? Во-да! Пить! — потянулась к пустой миске, повертела в руках, прикидывая, что можно сполоснуть её под дождевой водой и набрать. Вкусные были орехи, но эта эгоя склеивает рот.
Мастер закивал. Снова не подходя близко, осторожно потянул к себе миску. Найя смотрела, как он, отвернувшись к стене, что-то там делал. Потом махнул ей рукой и отступил, выдерживая выбранное ею расстояние. Она подошла, присматриваясь. В поставленную на пол миску стекали быстрые капли с кончика лианы, протянутого внутрь через щель в стене. Цветные. Как яркие стеклянные бусины, сыпались быстро и весело, превращаясь в лужицу светлой воды на донце миски. Или не воды? Облизывая липкие губы, дождалась, когда миска наполнится под край, взяла её, поднося ко рту.
— Касс-ирит, — подсказал Акут.
— Угу, — напиток блестел молочным перламутром и пах свежими яблоками.
Найя пила, и в голове её становилось светло, а на душе весело. Не хмель, а просто прозрачно всё. «Смотри, не размякни, — напомнила себе, искоса глядя на мужчину, — помни, что сделал». Но, выпив до дна, снова поставила миску под кончик лианы.
День всё шёл, и вместе с ним шёл дождь, но день менялся, становясь чуть заметно светлее и ярче, а дождь оставался мерным, и Найе было удивительно слышать, что там, за его колыщущимся покрывалом, идёт жизнь, такая, как всегда. Кричат и смеются дети, женщины длинно и певуче переговариваются (в одной фразе Найя услышала знакомое «мирит»), гортанно вскрикивают мужчины, будто играя во что-то. Звуки были мягки, хижина стояла на самом краю деревни, и их приглушало расстояние.
«Не сидят по домам молча, не ждут, когда кончится дождь, живут», — мысль промелькнула и ничем не закончилась, просто оставила зарубку. И до самого вечера Найя ходила по хижине, касаясь рукой вещей, стен, пола и циновок на нём. Смотрела на Акута, спрашивала и повторяла за ним новые слова. Уставая, садилась, привалившись к стене, разглядывала всё, что попадалось на глаза. И, отдохнув, снова кружила по комнате, заходила в каморку, чуланчик и в закут, где в полу было проделано отверстие, а глубоко внизу булькала протекающая вода. Вспомнила, как в первую ночь искала туалет и удивилась, что как-то после смутно помнила, был ли уже этот закут. Или Акут соорудил для неё?
Но спрашивать было рано, слишком мало слов, и она шла обратно, подходила к распахнутой в мерный дождь двери, протягивая руку, спрашивала:
— Это что?
Получив ответ, не зная, верный ли, ждала, когда тёплая вода нальется в ладонь, подносила к лицу, отпивая глоток:
— Это что?
А потом, когда уже не разглядеть стало углов, Акут затеплил огонёк светильника, достав чирок из ящика с плотной крышкой. Найя, падая от усталости, всё боялась ложиться спать. Но глаза слипались, и скоро она стала бояться просто заснуть посреди заданного вопроса. Тогда он ушёл к расстеленному ложу, на котором так и лежала огромная серая шкура с нарисованным на ней углем чудовищем, откинул край, показывая длинный мягкий мех, и отошёл. Проговорил, прижимая руки к груди. А потом отстегнул от пояса нож, вынул его из кожаных ножен. Протянул Найе, рукояткой вперед, и она взяла, глядя на прыгающие по худому лицу красные тени. Акут ушёл в дальний угол, лёг там на пол и, поджав жилистые ноги, отвернулся к стене.
Найя, с ножом в потной ладони, постояла посреди комнаты. Сон слетел, когда пальцы коснулись рукояти и сжали её. Вот сейчас, пока лежит наружу спиной и по цепочке позвонков бродят блики огня, подойти и всадить, по самую ручку, глядя, как потечёт из-под лезвия кровь и запахнет в хижине не цветами из переполненной миски под лианой, а тяжело и резко.
«А потом?» Можно, конечно, попробовать, как тогда с Витей, из мёрзлой степи, захотеть сильно и улететь. Куда? Куда-нибудь…
— Уже улетела, спасибо, — зло прошептала Найя, — куда еще занесёт?
Пошла к откинутому краю шкуры, забралась под тёплое, мягкое, пахнущее немножко зверем и немножко травой, удивительно уютное. Положила нож рядом, на пол, чтоб, если вдруг, сразу схватить. И заснула, приказав себе — никаких снов не смотреть, вот чтоб вообще — ни-ка-ких!
Так и спала. А мастер, слушая её ровное дыхание, снова сел на корточки и сидел, думая, покачивал головой и поднимал иногда брови. А потом, вспоминая, как лежал там же, под шкурой, кривил лицо, вздыхал и встряхивал волосами, отгоняя воспоминание.
После поговорил шёпотом с богами, поклонился, снова лёг на пол и заснул.
Месяц влажного тепла — странный московский апрель. Только что март кусал щёки и руки сжимались в холодные кулаки, уползая вглубь рукавов, — перчатки доставать лень, и вот жаркое, мокрое на вид солнце лапает шею и голову огромной ладонью, тянет пар от обтаявших по краям снежных куч, а во дворах, среди снега, бегают, сверкая посинелыми коленями, футболисты. Один, самый маленький, сидит на низкой чугунной ограде, потея под грудой наваленных на коленки пальто и курток.
Куртки и шубки, ещё вчера такие уютные, лёгонькие, давят плечи, натирают воротниками потные шеи. И глаза у спешащих людей одинаково затравленные и раздражённые: наденешь весеннее — вечером прихватит мороз, наденешь зимнее надоевшее — так и протаскаешь полдня на себе, а после на руке тяжкую, обвислую мёртвым медведем куртку. Завтра, может быть, падёт на огромный город снег, но может — снова будет солнце и почки ещё сильней набухнут, копя в себе зелень. С каждым днём будет припекать почти по-летнему. Чтобы через пару недель спохватиться весне, нахмуриться и отвернуться в обидах неизвестно на кого. И предусмотрительно повешенная за дверью куртка снова станет уютной и нужной, а лёгкие кроссовки придётся сунуть на полку до настоящего лета, короткого, послеиюньского.
Охранникам хорошо. Они выходят из своих домиков, на въездах в банки и посольства, оставив внутри зимнюю одежду, и стоят, прислонясь к нарядным стенам, щурятся на апрельское солнце. А если подует из пригородов, со снежных перелесков зябкий весений ветер, то в домишке всегда есть чайник и натоплено.
Витька перекинул куртку с одной руки на другую и кивнул мужчине в униформе, огибая конец полосатого шлагбаума. Тот, красуясь солнцезащитными очками, сделал рукой — проходи. И Витька прошёл чистеньким двором с газончиком, закованным в ажурный чугун оградок. Трава на газончике ровная, под гребёнку, зеленейшая, как поддельный ликёр, хоть в футбол по ней гоняй, если бы не ёлочки, натыканные по зелёному коврику.