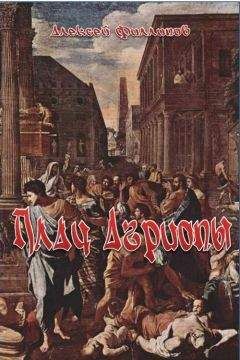- Я стрелял в лося! Это же охота! Понимаете? Братан — он вперёд ушёл. Откуда же я знал, что он меня справа обойдёт и кусты заколышет? Когда я… выстрелил… он не крикнул даже — охнул только. А потом у него лоб был… дырявый… И мозги — я их раньше только в магазине видел. Бараньи. Парные. А тут — кудрявые, как губка, с кровью, с костным ломом. Тоненькие такие косточки — как спички. А я Марьяне позвонил — жене его, значит, — и сказал: «Что хочешь тебе отдавать буду — руку мне режь, сердце — режь, машину забери, дочь забери, вместо своей, нерождённой. Я мужа твоего убил!»
Справа от девочки, словно бы видимый в другом окне деревенской избы, на низком табурете сидел бормотавший невнятицу мужчина средних лет. Перед ним возвышалась ученическая парта. Павлу казалось, черты лица бормотуна были ему знакомы. А ещё больше — знаком гранёный стакан, с заварным пакетиком на дне. Со второго этажа клиники стакан переместился на парту в чудной избе о тысяче окон.
- Я сплю? — Спросил Павел у девчонки. Та не отвечала.
- Вы мне снитесь? — Крикнул Павел в окно, за которым горевал мужик.
Окно захлопнулось. Изба развалилась по бревнышку — и тут же сгинула в болоте, в двух чёрных зрачках, — космических чёрных дырах, — светившихся на чьём-то великанском лице.
- Нет, я не снюсь, — громовым басом возвестило лицо. — А ты сейчас вырубишься. До выхода доплетёшься? Справишься?
- Я… а вы?.. кто?..
Зрение управдома словно бы раздвоилось: перед глазами мельтешили сразу две картинки — стены ищенковской клиники кривились и шатались на переднем плане; на заднем — мелькали какие-то лица, тёмные палисадники, слёзы, города. И где-то посередине между картинкой и картинкой стоял он — великан. Он не поражал ни статью, ни плечистостью, ни даже ростом, но всё же оставался для Павла великаном. Потому что он проникал в оба мира, присутствовал в них равно. И у этого великана было имя, знакомое Павлу: Валтасар.
- Я — Третьяков. Вениамин Третьяков. Память отшибло? Беги!
На управдома словно вылился холодный душ. Зрение вдруг прояснилось — и сонливость отступила. Павел понимал: ненадолго. Так страдалец, мающийся с больным зубом, заговаривает боль, твёрдо зная: у него будет пять минут между болью и болью; хочешь — по телефону болтай, хочешь — суп вари, хочешь — успевай на покаяние.
Третьяков! Бывший Валтасар. Бывший Стрелок. А коллекционер? Похоже, тоже бывший. От рафинированного интеллигента, надменно косившего глазом в монитор, не осталось и следа.
Третьяков был одет в подобие охотничьего комбинезона. Да и вёл себя, как заправский охотник или лесник, — нахраписто, грубовато. Обращение «на ты» в его устах звучало не столько панибратски, сколько вызывающе. Другие — могут, он — нет, — Так полагал Павел. Но Третьяков был полон сюрпризов.
- Что это за тварь? — Деловито выкрикнул он, вытаскивая из-за пазухи пистолет. Управдом не понял, ему ли адресован вопрос. Он опять начал выпадать из реальности.
«Клик-клок», «клик-клок», — Проклацал жвалами богомол за спиной. Чудовищное насекомое, готовое к прыжку и полёту.
Павел не выдержал. Он обернулся.
Он увидел, как зелёный мерзкий прыгун оторвался от пола и устремился ему навстречу. «Ариец», превратившийся в ковбоя Мальборо, шагнул навстречу летучей угрозе и выпустил в богомола шесть пуль. Тот завизжал; пули развернули его в полёте и оторвали ногу. Существо покатилось по палате, разбрызгивая зелёную кровь и когтя подушки. Палату наполнил летучий пух.
- Убирайтесь отсюда — сколько можно повторять! — «Ариец» ухватил Струве за руку и — одним сильным рывком — буквально выбросил тело в предбанник. Павел, налегке, поковылял за ним.
Богомол, казалось, бился в конвульсиях, но вдруг развернул одну из оставшихся зубчатых конечностей тонким серпом и взрезал комбинезон Третьякова. Брызнула красная человеческая кровь — и тут же смешалась с зелёной пеной, истекавшей из насекомого. Ариец вскрикнул, выронил пистолет, зажал здоровой рукой рану. Поднырнул под богомола — проскользнул между стригшими воздух серпами, как между шальными маятниками — и вонзился головой в яйцеподобную голову врага.
Скорлупа треснула. Желток — настоящий яичный желток — потёк по груди и конечностям насекомого. «Ариец» откатился в сторону. Прижимая раненую руку к рёбрам, бросился в предбанник и с размаху захлопнул за собой дверь. Загремел замками, запирая богомола в палате.
- Быстрей, быстрей, — подгонял он Павла.
Управдому казалось, он идёт по реке. Перешагивает через лёгкие барашки волн, босыми ногами распугивает смешных серебрянок.
- Я — как бог, я — не боюсь, — со смехом поделился Павел со спутником. — Вода — как дорога.
- Иди, иди, — успокоительно поддакивал «ариец». — Только не останавливайся. Хоть по воде, хоть по керосину, — только иди. У этой мрази, которую я запер, похоже, способность взрывать мозги. Если б ты его не ослабил — он бы и меня вырубил. Но он и сейчас — живей всех живых! Он может нас нащупать. Иди!
Павел, словно Афродита в мужском обличии, вышел из речного тумана на пляж, залитый лунным светом.
- Я присяду… — Ладонью он ощутил прохладу гладкого камня-валуна, утонувшего в серебряном песке.
- Да, давай на первое сиденье, — пропыхтел Третьяков. — Твоего психа я сам назад закину. Ну и тяжелы вы, братцы.
Заработал двигатель. А Павлу показалось, что запела свирель.
* * *
За шестнадцать дней, проведённых в палате святого Людовика, человек не научился ничему. Иные, искушённые в наслаждениях плоти, обучались там боли — он, всякого повидав на своём веку, не нуждался в уроке. Другие напитывались под госпитальными сводами злобой — он оставался смиренным. Наконец, были и те, кого Чёрная Смерть перековывала из неугомонных в терпеливцев — человек же и прежде был терпелив и умел ждать.
Вазари не солгал — дважды в день обитателей палаты кормили через узкие окна. На еду жаловаться не приходилось: иногда давали даже жареное мясо и вино. В первые дни заточения человек готовился к худшему — к тому, что еды не хватит на всех. Едва заслышав стук поварского черпака о подоконник, он вскакивал и, разыгрывая из себя кабацкого скандалиста, безжалостно тесня плечом и живых, и призраков, первым выхватывал из рук раздающего двойную порцию похлёбки, или баранины с луком. Свою половину съедал быстро и жадно. Ту, что предназначалась супруге, есть не смел, хотя женщина оставалась безмолвной и бездыханной. Похлёбку пытался вливать несчастной в горло, давил ей на подбородок, чтобы разомкнуть плотно сжатые зубы. Была ли от этого польза — человек не знал. Зато вскоре уяснил, что спешить к окну — не стоит; еды хватало. Это удивляло: палата святого Людовика была переполнена смрадными телами. Однако приблизительно треть больных не могли подняться на ноги, чтобы доковылять до окна; они оставались без пропитания. Немалое число обитателей палаты святого Людовика были попросту мертвы. За мертвецами приходили единожды в неделю — четверо плечистых мортусов и один чумной доктор в полном облачении, — а до того они занимали место в палате наравне с живыми, но в пище, ясное дело, не нуждались.