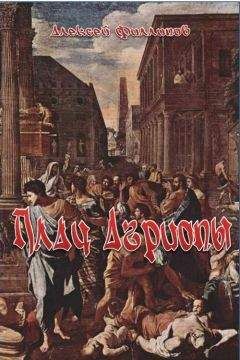Потом по стенам пробежала дрожь — словно дому сделалось холодно, и он покрылся гусиной кожей.
А потом всю округу наполнил низкий гул, и из него, как из тучи, прогрохотало.
- Раймон Бертран де Го, сын Беро де Го и Иды де Бланфор, ты воссел на Святой Престол на девять лет. Твоя длань опустится на верных твоих слуг. Она зажжёт костры, на которых тем гореть. Она воспламенит их ненависть, обращённую к тебе. Ты станешь богат и бесславен. Последний преданный тобою магистр-мученик расправит огненные крылья на Еврейском острове, на реке Сене, в час и день весны. Я слышу его. Услышь и ты. «Папа Климент! Король Филипп! Рыцарь Гийом де Ногаре, гнусный предатель! Не пройдёт и года, как я призову вас на Суд Божий! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» И сбудется по слову сему. Ты умрёшь в один год с королём, которому служишь. От грязной болезни и изумруда в твоём чреве! Когда твоё тело будет ждать погребения в церкви — молния явится с небес и сожжёт церковь и тело. Ты не восстанешь в судный день! Ты сделаешься золой и палёным мясом! А по твоему следу к народу твоему придёт божья Чума! Ты слышал пророчество!
Дрожь земли и деревянных балок дома прекратилась. Гул смолк. Внизу с грохотом упало что-то звонкое — вероятно, стекло или хрусталь.
- Ваше святейшество. — Тихий встревоженный голос мэтра Арналдо. — Что с вами? Вам дурно? Позвольте помочь…
- Прочь!.. — Кашель и единственное хриплое слово из горла понтифика. — Прочь от меня!
- Я уведу его. — Поспешное предложение алхимика.
- Нет! — папа Климент вскрикнул, как от боли. И тут же ещё повысил голос и возопил. — Эй, за дверью! Ко мне! Сюда!
Слуга в своей каморке едва не лишился чувств: вот оно! Смертный час, казнь без суда! В дом, выбив дверь мощным ударом, ворвались громкие подкованные сапоги.
- Убейте отродье! — Бросил понтифик. — Не обманывайтесь его видом. Он не ребёнок, он — демон.
- Нет! Ваше святейшество! Нет! Молю вас! — В топоте, шуме свары и пыхтении нескольких глоток пытался защитить своё творение мэтр Арналдо. — Я увезу его отсюда! Позвольте нам уехать!
- Умолкни, колдун! — Громогласно приказал понтифик. — Этой мерзости не место среди живых. Тебе я дарую жизнь. Твой дом будет стоять и богатеть, если ты промолчишь об этой ночи. Но выродок должен исчезнуть.
- Нет, ваше святейшество! Молю вас, нет!..
Вопль — оглушительный, как взрыв тысячи ярмарочных ракет, сокрушил Авиньон. Так подумалось слуге: подумалось, что город рассыпался по бревну и кирпичу под тяжестью этого крика боли. И тут же слуга понял, что страдание поселилось не в Авиньоне, а у него в ушах. Гомункулус, пронзённый кривым разбойничьим ножом, кричал в головах убийц, папы Климента и страшно — как же страшно, должно быть, беззащитно и обречённо — кричал он в голове мэтра Арналдо.
- Кончено? — Хрипло выдавил понтифик.
- Не слышу сердца. Кончено. — Отозвался чей-то незнакомый грубый голос.
- Я прощаюсь с тобой, колдун, — загнанно дыша, будто после долгого бега, проговорил Климент Пятый. — Тебе не позволено покидать Авиньон под страхом преследования Святой Инквизицией. Завтра ты навестишь меня… Начнёшь лечить. И вылечишь — алхимическими снадобьями или чёрной магией — не важно. А сейчас — прощай.
Уверенные быстрые шаги. Медленная мягкая поступь. Гость и его головорезы покинули дом. Из выбитой двери тянуло ветром. Ветер взвивался даже до второго этажа, где приходил в себя натерпевшийся страху слуга.
- Отец… Ты тоже хочешь моей смерти, как эти люди? — Музыкальная дрожь, на сей раз еле заметная, вновь охватила дом.
- Ах! — Возглас мэтра Арналдо был похож на гортанный крик безумца, бившегося в кандалах. — Ты жив? Как это возможно? Тебе пронзили сердце! Я спасу тебя! У меня есть микстура из Персии… Я накормлю тебя досыта своей кровью, потом вылечу этим чудесным средством.
Слуга слышал, как мэтр лихорадочно суетится внизу, гремит склянками, то и дело разражается сочной кабацкой руганью, не в силах что-то отыскать в алхимическом бедламе.
- Не стоит… — Тихий голос гомункулуса, так похожий на голос уставшего от проказ мальчишки, по-прежнему звучал прямо в ушах слуги. Наверное, мэтр слышал его ещё лучше. — Не стоит… отец… Ты не спасёшь меня, а сам… погибнешь… Я должен… умереть… Но, знаешь… есть одна сложность…
- Не разговаривай! Не разговаривай, мальчик! Тебя нельзя! — Бормотал мэтр Арналдо. Он уже угомонился, и в доме установилась тишина. Слуге казалось, мэтр сейчас склонился над гомункулусом и поддерживает тому голову, как делают это рыцари, когда приходит смертный час одного из братьев во Христе.
- Есть сложность… — Настырно, упрямо продолжил мальчишка. — Меня не убить железом или ядом… Моё сердце не похоже на твоё… Но я… Научу тебя, как упокоить чуждое этому миру…
- Ты не чужд ему, сын, — алхимик плакал — горько, как никогда прежде на памяти слуги.
- Чужд, и ты сам это знаешь, отец. Ты знаешь… Я чувствую ту же боль, что и люди… Но люди… получают забвение смерти и новую жизнь после боли… А я… только её повторение… Если ты сострадаешь мне, отец… ты оборвёшь мою жизнь и мою муку…
Тук-тук-тук… Кузнец-сердце ковало не то смиренье, не то сострадание под рёбрами слуги. «Молчание — это не плащ, которым укрыт спящий, — подумалось тому, и он едва верил, что эта мысль — его собственная. — Молчание — это капель сердца — добрый грибной дождь, или грозовое крошево».
- Я сделаю это. — Мэтр Арналдо наконец одерживал верх над слезами и обретал былое достоинство. — Клянусь тебе, я сделаю, как ты скажешь… Но я отплачу… За тебя и себя… Я буду здесь и отплачу ему…
* * *
Бумм! Буммм! Бумммм!
Последняя «м», дрожа и вибрируя, ленточным паразитом вгрызалась в мозг и внутренности. Казалось, многопудовый колокольный язык мерно и неумолимо отсчитывает чей-то век.
- Мы же люди! — Послышалось Павлу. — Что нас теперь — на костёр? Из-за двух прыщей и одного синяка?
- Вставай! — Кто-то аккуратно тряс управдома за рукав. Голос был слабым, как будто говоривший вещал из-под одеяла, укрывшись с головой.
Павел попробовал сконцентрироваться на голосе. Глаза, словно два прутика в руках лозоходца, сошлись в одной точке. Было в этом что-то механическое — что-то наподобие настройки объектива фотокамеры. Так и есть — на втором плане покачивался, как тростник на ветру, алхимик, — вокруг лица обвязана какая-то клетчатая салфетка, — а досаждал вылезший на передний план Третьяков — кто же ещё! Рот «ариец» и впрямь прикрывал грязноватым, широким носовым платком. Похоже, на то имелась причина: по подземелью клубился, делаясь всё гуще, серый клочковатый туман. Впрочем, какое дело до него Павлу? Встать-то — как ни крути — не получится. Управдом, не желая, чтобы Третьяков почитал его за хама, попробовал мотнуть головой, показать: «и хотел бы послушаться, да не могу». И вдруг ощутил: голова качнулась легко, шея склонилась и вновь распрямилась гибко. Во рту, правда, сделалось горько, мысли на мгновение спутались и закружились акробатическим колесом, — но прогресс был налицо. Павел пошевелил руками; те откликнулись на зов. Ноги слегка бунтовали, однако и они согнулись в коленях.