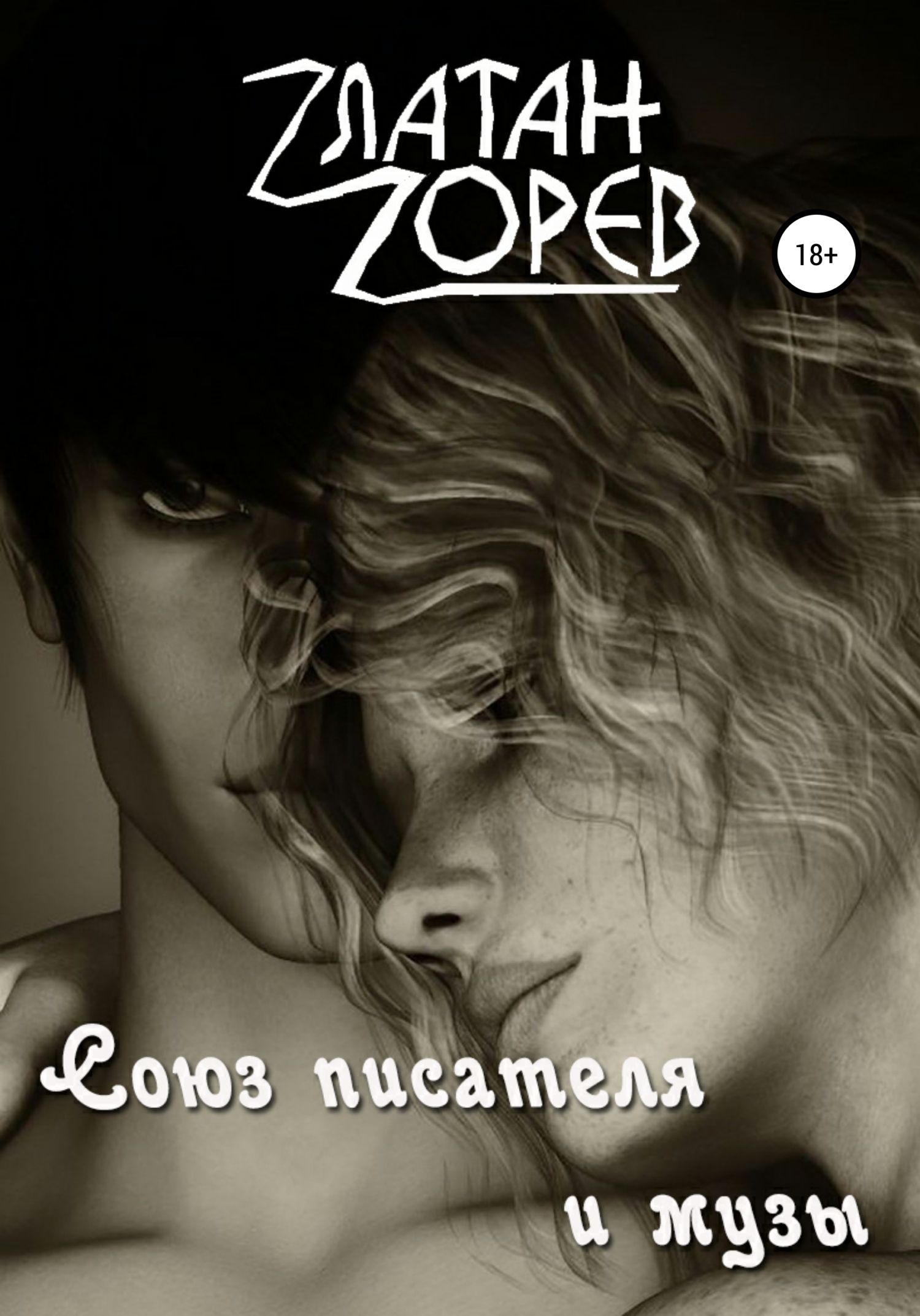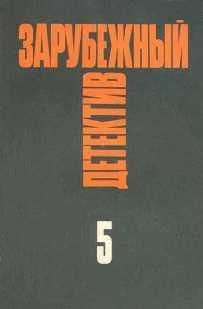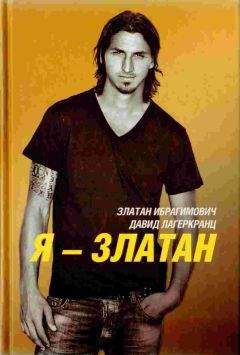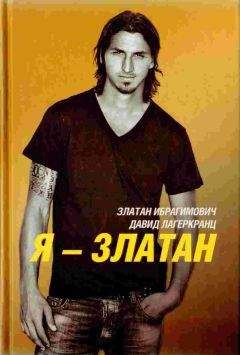— А теперь давай уже займемся нашей книгой.
Серж прикинул, что продолжения не будет, но Муза повернулась к нему спиной и облокотилась о стол, соблазнительно изогнув спину.
— Начинай, писатель, сделай музе приятное.
Писатель прижался к ее заду, нежно и аккуратно ввел пенис в мягкое лоно. Обхватив руками груди, Серж начал делать неторопливые движения. Муза охнула и зашептала непонятные слова.
Отчетливо щелкнула печатная машинка, раз, другой и третий. Он в изумлении остановился. Замерла и пишмашинка.
— Продолжай, — сказала Муза, — не останавливайся. Это рождается наша повесть!
Продолжил движение, вгоняя в лоно фаллос, и не выпуская из рук грудей. Машинка застучала настойчивее. Вскоре лист вывалился из каретки, и тогда зажужжал принтер, медленно, словно пробуя слова на вкус, отпечатывая неведомо кем заложенный текст.
Муза застонала от наслаждения, и охрипшим голосом говорила «Давай, давай, не останавливайся, пиши, пиши, пиши, пиши!»
И продолжал писать, мял упругие груди с затвердевшими сосками, все ускоряя и ускоряя ритм. Когда понял, что вот-вот кончит, ослабил напор и несколько минут двигался вполсилы, а затем снова усилил натиск.
— Как же хорошо, — сказала Муза, — давай, давай, не останавливайся.
Принтер жужжал, как сумасшедший, печатая все быстрее и быстрее, зеленоватый огонек мерцал. Листок за листком соскальзывали в лоток и складывались аккуратной стопкой.
— А теперь финал, давай пиши финал. Пиши!
И Серж ускорился, не в силах остановиться. Муза под ним извивалась, словно пыталась вырваться, и это возбуждало сильнее. Сделал еще несколько сильных движений, высвободил все, что накопилось. Принтер, взвизгнув, как раненый, замолк.
Обессилевшие, упали на ковер у компьютерного стола. Обнял Музу, поцеловал между лопаток, и они уснули в нежной неге. Не было сил даже сходить в душ.
***
…Когда открыл глаза Музы рядом не было. Сергей лежал на ковре, подложив под голову джинсы. В окно светило солнце.
Сходил в душ, ополоснулся, сделал себе кофе. На кухонном столе лежала записка, отпечатанная на пишмашинке.
«Это было здорово! Повесть вышла восхитительная. Пошли куда-нибудь, не запирай в стол. В столе от нее не будет никакой пользы. Наша с тобой любовь написала очень хорошую повесть, ее нельзя прятать, нужно показать людям.
Я еще приду.
Твоя Муза».
В зале собрал листки из лотка принтера и лежавший отдельно у печатной машинки, который отпечатался первым. Повесть на 56 листах, которую создали вместе с Музой. Мистика. Такого не бывает, но вот они, эти листочки, лежат перед ним и ждут, когда их прочитают.
Перенес стопочку бумаги на кухню, приготовил еще чашку кофе, взял в руки первый лист и принялся читать. Стиль немного шершавый и рваный, но чувствовался, и нечего тут менять, ни одного слова. А главное — это была цельная повесть, а не разрозненные кусочки — наконец-то пазл собран.
***
«…Когда-то грезил великими мечтами. Упивался своим значением, которого достигнет в будущем… Мечтал о всемирной славе поэта. Вилен писал стихи, показывал друзьям. Вслух никогда не читал, открывал потрепанный блокнот при случае и говорил: «Посмотри, я тут кое-что интересное нацарапал».
К стихам относились, как к проявлению блажи, к нему самому — как к большому ребенку, который все никак не наигрался в поэта. Порой начинали по-дружески гоготать, пародируя его опусы.
«Пишешь? Ну пиши, пиши. Может, чего-нибудь и напишешь, Пушкин», — приговаривал одноклассник Сеня, с которым продолжали дружить после школы.
Ему больше нравился бесшабашный Есенин периода имажинизма, но товарищи упорно продолжали называть Пушкиным.
Терпеливо продолжал писать, за компанию посмеивался с Сеней над собственными стихами, как бы предавая их. Стихи на это не обижались, они не усели обижаться.
Несколько раз облегченно вздыхал и откладывал старенький блокнот на полгода, а то и год, запихивая в глубину ящика письменного стола. Жил, как все, ни о чем не заботясь, от зарплаты до зарплаты, от попойки до попойки, от девушки до девушки.
Но блокнот с желтой обложкой снова попадался на глаза. Перелистывал исписанные синими чернилами страницы, убеждался, что стихи — ни к черту, а вот эти два можно оставить. Выдергивал несколько листов, сжигал в пепельнице и продолжал писать.
Писал урывками, как получится. Мог несколько дней прокручивать в голове неподвластную рифму, прежде чем занести в блокнот, а мог, не вставая из-за стола, набросать несколько свежих стихотворений. Бывало, неделю или две болел одним четверостишием, а через месяц нещадно вымарывал его из блокнота и из памяти.
И вот однажды…
— Слушай! Это стихи! Черт возьми! Это печатать можно!
И это сказал не абы кто, а Сеня, который всегда смеялся над его стихами.
Ожидал, как обычно, насмешек, иголок и даже ножей, и не поверил своим ушам. Может, ослышался?
Промолчал, ничего не сказав в ответ, лишь вопросительно посмотрел на друга. Тот подтвердил — стихи ему понравились.
Сеня разнес радостную весть — Вилен наконец-то стал поэтом! И это было, как нак качества, — теперь все поверили в Вилю.
На старой квартире, оставшейся ему с братом от родителей, ежедневно собирался шалман. Раньше там пили пиво, играли на гитаре, слушали музыку, а потом тесная комнатушка превратилась в культурный центр.
— Ну, что-нибудь новенькое есть? Чем порадуешь? Читай стихи, Пушкин!
И он читал. И его слушали. И наплевать было, что вся аудитория — с десяток друзей, собиравшихся в его доме попить пива и рассказать о похождениях на любовном фронте. Главное — исчезла пустота, на краю которой он стоял — стихи стали мостиком, по нему можно пройти через пропасть.
Взгляды людей меняются с удивительной быстротой. Сегодня человеку нравятся твои стихи, а завтра уже нет, или наоборот. Мы порой сами не знаем, что нам по сердцу, а что нет. В школе, когда Вилен учился в пятом или шестом классе, на уроке труда получил пятерку за заготовку, сделанную по шаблону. На другой день преподаватель, заново осмотрев работу, исправил пятерку на двойку, так и не объяснив почему.
Так было и со стихами. Просили почитать, переписать, показать знакомым. Иногда даже приходили незнакомые люди,