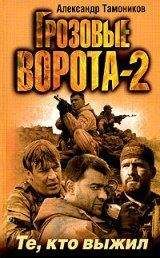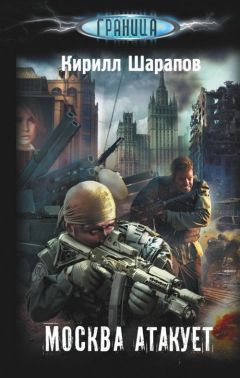– Хорошо! – сказал Скачко и вдруг почуял цигарку, которой уже не видать было в крупных пальцах Соколовского. – Куришь?
Соколовский протянул Скачко окурок, и тот бережно взял его смуглыми пальцами. Странно, но его пальцы не менялись, точно такими были они, когда Миша попал в лагерь тяжеловатым на глаз увальнем – до войны его знали в городе больше по кличке Медвежонок. За лагерную зиму он исхудал, высох, кожа цвета вяленой воблы обтянула лоб и скулы, сжалась голодными, стариковскими складками у рта, крупные веснушки проступали на лице резко и неспокойно, без прежнего добродушия.
Он дважды неглубоко затянулся и, не глядя на Дугина, протянул ему окурок. Дугин не шевельнулся, и, помедлив, Скачко снова поднес окурок к бледным, словно навсегда озябшим губам.
– Вот подымусь, пойду прямиком, – сказал Скачко, – и сниму с проволоки лоскутья…
Все трое посмотрели на клочья бушлата, на валявшийся у ограды деревянный ботинок матроса.
– Я думал, обошлось, – проговорил Соколовский. – Думал, забыли, крест поставили на матросе… Они тоже не все помнят… Не угадаешь, что им в голову взбредет.
– Зимой было лучше. – Дугин стоял запрокинув голову, и товарищи не видели, какими печальными стали его серые жесткие глаза. – Зимой не до травки! Все по-честному, без обмана. – Он коротко, зло повел головой. и судорожно сглотнул. – Печенка примерзает к хребту. Все леденеет – руки, душа. Жизни нет, ни черта нет… И не надо!
Это чувствовали все. С приходом весны сердце сдавила небывалая еще тоска. Все бередило душу – запахи тающего в оврагах снега и вскрывшейся ото льда реки, почки на кустах бузины за сортиром, высокое голубое небо и нежная зелень холмов.
– Пойду и сниму, – повторил Скачко. – Думаете, убьют? Посмотрим!
Соколовский увидел его сжатые губы и поверил. Вот встанет, сорвет с проволоки клочья бушлата и как ни в чем не бывало вернется на место. И такое случается. В жизни всякое случается. Но Дугин схватил Мишу за плечо, рванул к себе.
– На нервах играешь! На всех наплевать, да? Пусть хоть десятерых шлепнут, только бы тебе покрасоваться.
Скачко не стал вырываться: порыв прошел, и теперь он с испугом и удивлением смотрел на колючую проволоку.
– Жариков, Жариков!… – проговорил он, опускаясь на корточки рядом с Соколовским. – Угораздило тебя, папаня.
Матрос называл его «сынком». При первом же знакомстве он заметил вытатуированный на правой руке Миши якорь и посоветовал ему держаться осторожнее:
– Ты руками не шибко помахивай: присчитают к флоту, тогда все, конец, суши весла, – сказал он не без гордости. – У них приказ номер один – коммунистов и матросов – налево.
– А как же ты? – удивился Скачко.
Жариков и сам недоумевал: немцы знали, что он матрос. Он не скрывал этого, да и как скроешь, если старенькая, обвислая тельняшка не закрывала синевато-сизого, небрежно наколотого фрегата, который несся к левому плечу, распустив поросшие седым волосом паруса! Жить, конечно, хочется, и ладно, что все так, но была и какая-то тревожная, досаждающая нескладица в том, что ты вот матрос, а немцы щадят тебя. Жариков обычно шагал в колонне, вызывающе распахнув бушлат.
– Тебя-то не тронули, – повторил Скачко.
– Хрен их знает! – Жариков виновато пожал плечами. – Психи они, не видишь, что ли?! А ты меня слушай, лучше поберегись. Они конопатых комсомольцев не любят, бьют и на развод не оставляют…
Матрос погиб три дня назад. Теперь настал их черед.
Трое у барака молчали. Мысль о матросе уже отлетела. Он был в прошлом, жил где-то в памяти, почти бестревожно, будто не дни прошли, а годы, – большой, рукастый, с неспокойными глазами, враз наливавшимися кровью.
– Зачем они тебя припутали? – спросил вдруг Соколовский Дугина. – Ты ведь не очень любил его.
Русые волосы Дугина, стриженные несколько месяцев назад, отросли одичало; грязные, жесткие, они нависали над лицом, как старая стреха над деревенской хатой. А лицо было тонкое и нервное: настойчивый, требовательный взгляд серых глаз, прямой, с подвижными крыльями ноздрей нос и четко очерченный рот, словно обведенный упругой кромкой. Он ответил не сразу, словно проверяя себя:
– Разве надо всех любить? Сердца не хватит.
Из-за угла барака выскочил Штейнмардер. Он с маху огрел кулаком Соколовского, затем Скачко, который хотел было подняться на ноги, но от удара повалился на бок.
– В барак! – приказал на ходу Штейнмардер.
Барак разгорожен дощатой стеной с дверью, соединявшей обе половины.
– Я уважал его не меньше, чем другие, – продолжал Дугин, сев на нары. Вопрос Соколовского задел его. – А любви не было, никак не было. Я и не старался – необязательно. Может, на воле пришлись бы друг другу по душе, а может, и нет, не знаю. У меня с бодрячками никогда не ладилось. А этого, – он кивнул на открытую дверь барака, – я ему не прощаю. Не потому, что мне из-за него умирать…
– Ты прости, – попросил Скачко. – Ты все-таки прости.
– Слушай, Иван, – Дугин повернул к растянувшемуся на нарах Соколовскому напряженное лицо, – я о прошлом не жалею. Обидно вот так пропадать, а что сделаешь! Ничего ведь не успел: жениться и то не успел. – Он ненадолго умолк. – Повоевали мы с тобой мало, так мало, что сердце от злости заходится. Теперь конец.
– На войне, что ли, не умирают! – принужденно усмехнулся Скачко.
– На фронте я бы не умер! – сказал Дугин. – Никому не докажешь, а вот знаю: жил бы и жил, вредным был бы для немцев.
Скачко не спорил. Конечно, фронт – это жизнь, жизнь среди своих, дыхание во всю грудь. Умирают и там, но думать об этом незачем.
– Не жалею о прошлом, – настойчиво повторил Дугин. – Вот так жил! – Он шумно вдохнул струившийся в барак весенний воздух. – Вот так и еще лучше! Но почему нас так скрутило, Иван, что за чертовщина? – Выражение его лица изменилось, на него лег отпечаток не обиды и не растерянности даже, а душевной муки. – Какие люди прошли через один наш лагерь! Что им храбрости не хватало, что ли? И сила есть, и храбрость, а фронт где? Где он теперь? Лег бы на землю и слушал…
– Как же, услышишь, – заметил Скачко. – Ухо не возьмет, тут, Коля, сейсмограф нужен.
– Все вернется, – сказал Соколовский. – Ты соберись с духом. Не мы, так другие погонят их, хребет сломают. Это только начать надо, дожить до такого дня.
К лагерю подъехала машина. За приземистыми постройками послышалось привычное: «Achtung! Achtung!»[2]. Заскрежетали ворота на кованых петлях, и машина въехала на территорию лагеря. В барак донеслись слова команд; все было так знакомо, что не стоило и вслушиваться. Топот ног, затихающий в разных направлениях, будто играют в прятки. Недолгий говорок мотора – водителю приказали убрать машину в сторону. Гортанные крики.
Сегодня ничто не имело отношения к их судьбе, кроме твердого, как плаха, «лобного места», черных автоматов и солнца, которому в час расстрела останется три-четыре метра до линии горизонта.
В барак, запыхавшись, вбежал Штейнмардер. Его красноватое лицо оставалось невозмутимым, но он тяжело и недобро дышал.
– Aufstehen![3] – прикрикнул он.
Приказано срочно всех троих к комендатуре. И без этих вонючих лохмотьев, лучше пусть остаются в подштанниках.
Босые, они гуськом бредут по глинобитному полу, шагают через высокий порог в перегородке, идут по чужой половине барака, где им обычно запрещено появляться, хотя здесь та же безрадостная жизнь, та же вонь, что и у них, тот же сыроватый земляной пол.
Они вышли на небольшой плац, отгороженный глухими стенами двух бараков и зданием комендатуры с палисадником. Солнце слепило глаза, но они держали голову высоко, смотрели поверх сверкающих лаком фуражек офицеров. Медленный, спокойный шаг, взгляд вверх и в сторону, упрямый поворот головы. Ничто не выдает волнения, почти неизбежного в последние минуты жизни. Родная земля прогрета солнцем. Босые ноги мягко ступают по ней.
В группе офицеров – комендант лагеря Хельтринг, какой-то майор СС и тучный человек в полувоенной табачно-рыжей форме, какую носят
представители промышленных фирм и гражданской администрации. На нем коричневые краги, он коренастый, рыжеволосый и меднобровый, с розовыми кроличьими глазами.
Немцы смотрели на пленных оценивающе, взглядом лошадиных барышников. Пожалуй, один Соколовский, несмотря на худобу, выглядел внушительно. Он высок и движется торжественно поднимая колени чуть выше, чем того требует обычный шаг. Стриженый веснушчатый парень слева – угловатый и нескладный – узковат в плечах и мелок. А третий превосходно сложен. Тоже худой, невысокий, и если бы на этот скелет в меру нарастить мяса и мышц, получилась бы отличная модель.
Парни молча остановились шагах в десяти от офицеров, как будто война давно провела по земле невидимую черту, которой не преступить. И вдруг толстяк в табачной форме выкинул навстречу им желтый футбольный мяч. Тугой, яркий, словно пропитанный охрой, он подпрыгнул раз, другой и ткнулся в ноги Соколовского. Толстяк поощрительно свистнул коротко и весело: так науськивают собак.