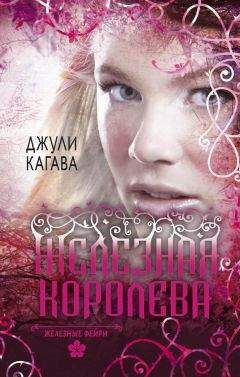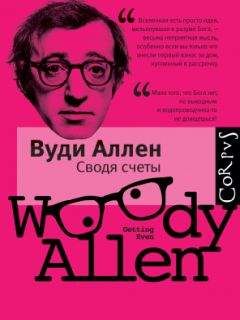Нынешние вратари, если вдруг в обороне мелькнет просвет, пусть угроза кончилась ничем, горячо отчитывают партнеров за этот просвет. Они — разгадчики, им мало быть заряженными реакцией на удар, в них ценится реакция на игровые метущиеся перемены. Рискну заметить, что по умению угадывать ситуацию и разряжать ее аккуратным, быстреньким, чистеньким выходом на перехват мяча, по умению отдавать распоряжения партнерам-защитникам лучшие из нынешних вратарей превосходят своих предшественников.
Но игра остается игрой, рвутся самые крепкие сети, увлекшихся наступлением ловят на контратаках, форварды наносят по-прежнему «мертвые» удары, хоть и реже, чем во времена Г. Федотова, А. Пономарева и Н. Симоняна. Есть и сейчас среди них звезды, кого издавна называют «грозой вратарей»: О. Блохин, Р. Шенгелия, О. Протасов, О. Беланов, С. Родионов... Работы в прямоугольнике ворот хватает, несмотря на то что многое в этой работе стало выглядеть иначе.
Ринат Дасаев и воплотил в себе, выразил то, как игра вратаря ответила на новые веяния в футболе. Он вратарь современный, эры тотального футбола с его комбинационными перестроениями, с участием большого числа игроков и в наступлении и в обороне, когда любая угроза стала замаскированной и надо ее предвидеть, разгадать, быть готовым к любому обороту событий. И если так представлять его обязанности, то тонкая фигура и тонкое лицо оказываются как нельзя кстати.
Вполне возможно, что кто-то не согласится со мной, я не настаиваю, пусть это будут вольные вариации на вратарскую тему.
Если во вратарях мы видели хозяев прямоугольника ворот, то центральные защитники были хозяевами другого прямоугольника — штрафной площади. Они редко его покидали, разве что с отчаяния, чтобы поднять в атаку команду. Им полагалось сторожить центрфорварда противника—игрока самого опасного. Да и на них держался весь редут, они обязаны были поспевать всюду, где тонко. Говоря современным языком, они совмещали обязанности переднего и заднего центральных защитников, стоппера и «чистильщика». Трудно представить, как они управлялись. Но управлялись, и наградой им была любовь трибун. И капитанами их часто выбирали. И хоть знали мы, что футбол — для храбрых, центральные защитники выглядели воплощением храбрости. Не рассуждали мы тогда, каковы они в отборе мяча, в прыжках на высокие передачи, в выборе позиции, в подстраховке — все это было скрытыми подробностями, секретами ремесла. Мы видели, как они принимают на себя атакующие валы и рассекают их, как добираются до мяча, чего бы это ни стоило, как встают под страшные удары. И там, где они, реял над несдающейся баррикадой клубный флажок!
Все они, люди последнего рубежа, крайних мер, к которым больше, чем к кому-либо, подходил девиз — «Один за всех!», рисовались нам людьми, иссушенными заботой, с впалыми щеками, горящими глазами, подвижниками, которым хоть костром грози, а они не дрогнут.
Михаил Семичастный, динамовец, некогда удачливый правый крайний нападения, сделался знаменитостью, став центром защиты. Худой, костистый, резкий, с профилем тевтонского рыцаря.
Иван Кочетков, армеец, приземистый, расторопный. с задорным смоляным чубчиком, лицо скуластое, глаза красивые, разбойничьи, беспощадные.
Василий Соколов, спартаковец, высокий, тощий, казавшийся отцом, дядькой своим товарищам, начинавший, и хорошо, в тридцатые годы крайним защитником, в послевоенные годы выглядел последним из могикан, тянувшим за собой спартаковское племя, не давая ему сгинуть. Доиграл до 39 лет, а в следующий год после ухода с арены, в 1952-м, в должности тренера сразу стал чемпионом.
Августин Гомес, торпедовец, выросший у нас из спасенной испанской детворы. Имел фигуру крепыша, округлую и мягкую, и играл мягко, чисто, точно. Его круглая, рано начавшая лысеть голова всегда была заметна, хоть и невысок он был, легко прыгал, брал расчетом, умом, сноровкой, был точь-в- точь, как те баски, которые приезжали в тридцать седьмом.
О центрфорвардах тех лет — Бескове, Федотове, Боброве, Пономареве, Пайчадзе, Симоняне, Соловьеве — я писал в книжке «Форварды». Она вышла не так давно, в 1985 году и, возможно, попадалась читателю — любителю футбола.
Сейчас не угадаешь, кто в матче забьет гол.
А тогда, увидев на поле знакомую «девятку», мы проникались уверенностью, что гол будет обязательно. Нет, мы не были простачками, знали цену всем форвардам; в каждой команде было по пять, да в дублирующем составе столько же. Скажем, в чемпионате 1949 года участвовало 18 клубов и форвардов, выходит, сто восемьдесят. И все они состояли на болельщицком учете. Сейчас ориентироваться проще: в высшей лиге состоят в форвардах, включая резервных, хорошо если человек шестьдесят. Втрое меньше. Зато не перечесть игроков середины поля — людей загадочных, которые вдруг пробьются, выскочат и пошлют мяч в сетку. Правда, и невозможно предвидеть, когда это произойдет.
Тогдашние «девятки» забивали регулярно. Игра строилась таким образом, что «девятку» партнеры всегда имели в виду как козырную карту. И подбирались центрфорварды с большим разбором. Их искали, переманивали, считалось, что без хорошего центрфорварда команда мертва. С них не сводили глаз трибуны, и если команда оплошает, забьет меньше, чем противник, первый, кого брали в оборот, был центрфорвард.
В наше время выдвинулся Олег Протасов. Вот он — родня, прямой потомок тех центрфорвардов. Он кружит около штрафной площади: то ли ждет передачи на рывок, то ли сторожит заминку чужого защитника, то ли сам затевает короткую остроугольную комбинацию, то ли прыгает, чтобы достать мяч, летящий вдоль ворот. И бьет без колебаний, жадно, удар полновесный, как и полагается игроку, от которого ждут попадания.
«Тройка», «девятка», «туз», «хребет» команды — так вырисовывалась магическая формула игры сороковых годов. Три эти роли требовали игроков выдающихся, общепризнанных героев. И у нас, ездивших на футбол, постоянно перед глазами были личности, мы переживали за них, восхищались ими, жили в предвкушении встречи. И узнать, что матч пропускают, скажем, Бесков, Кочетков, Акимов, Пономарев, Симонян, Гомес, было сильным разочарованием.
Я пытаюсь передать, каким казался футбол сороковых годов с динамовского «востока». У меня нет ни желания, ни причин выставить его в противовес футболу нынешнему. Тем более мне было бы некорректно этим заняться, что свою, если угодно сознательную, жизнь в футболе, репортером, я начал позже. Для меня старинный футбол — прошлое, цветные картинки, образы, впечатления, которые я берегу в памяти. И, пожалуй, верно будет сказать, что берегу поодаль, отдельно от того футбола, о котором позже стал писать.
Прежде чем обозначить начало репортерства, попробую порассуждать о том, чем был для нас футбол в те годы. Картинки картинками, а ведь что-то задевало и душу.
В годы Великой Отечественной один из нашей компании оказался «белобилетником», по болезни освобожденным от призыва, а остальные были солдатами. Трое с войны не вернулись. Мы от отцов и матерей своих не как лозунг и клятву, без всякой патетики, просто как принятый в семьях образ жизни, заимствовали потребность участвовать во всем, чем жили все вокруг, согласно выражению Маяковского, которым мы безоглядно увлекались, «каплей лились с массами». Бедный житейский быт нас не угнетал, скорее, наоборот, помогал легко переключаться на духовные сферы.
Мы были заядлыми пионерами, не снимали галстука ни в гостях, ни в театре. Восхищались челюскинской эпопеей, полетами Чкалова и Громова, испытывали боль за Леваневского и стратонавтов, сострадали испанским республиканцам, увлекались репортажами Михаила Кольцова.
В институтские годы ставили и играли «Город на заре» Арбузова и «Дачники» Горького; выпускали рукописный журнал, сдавали нормы на значок «Ворошиловский стрелок»; посещали сборища в редакции «Огонька» на Петровском бульваре у Ефима Зозули, где еще не начавшие печататься поэты и прозаики читали свои сочинения, где нас, вечно голодных, угощали шикарными бутербродами. Чтение продолжалось и на бульваре, а если летом, так до рассвета.
Горячая песня бродяжит в крови,
Горячими зорями мир перевит.
Кто вышвырнет двери, кто в ветер поверит,
Кто землю тугими шагами измерит,
Кому не сидится под крышей — вперед!
Срываются птицы в большой перелет.
Это—голос Бориса Смоленского, двадцатилетним погибшего в ноябре сорок первого. Его голос долго был со мной, только голос. А потом случайно набрел на крохотную книжечку его стихов, изданную крохотным тиражом спустя 35 лет после гибели. Теперь у меня есть и eгo слова. Помню голос Севы Багрицкого, сына Эдуарда Багрицкого, тоже погибшего.
А нас испытывали арестом моего отца и отца Виктора Берковича. И, наверное, потому, что наша жизнь, дневная, та, что на виду, уж слишком противоречила другой жизни, скрытой от глаз, ночной, глухой, непонятной, мы даже в своей надежной компании обсуждений не затевали, все, что мы могли, — это жить как ни в чем не бывало, хотя бы с виду.