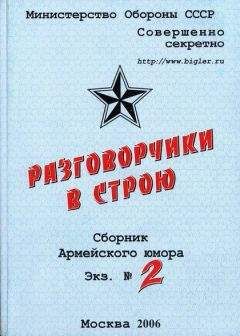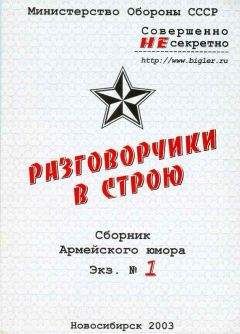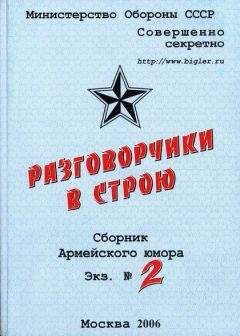А познакомились мы гораздо позже.
Подполковника Файзуллаева предупреждали, что от ротного Юрки Хорошевского следует держаться подальше, а ещё лучше – отправить его куда-нибудь на повышение или на учёбу в академию. Старлей обладал феноменальным даром притягивать неприятности – к себе и к тем, кто случайно оказался рядом и не успел спрятаться.
Началось все с того, что Юрка, едва приехав в Мирную и приняв должность, обронил в автопарке бумажник с документами. Рыская, словно ищейка, в его поисках, ротный не заметил открытой двери КамАза, разбил себе голову, помял саму дверь и едва не покалечил рядового Усманова, который как раз расположился в кабине покурить, свесив ноги наружу. Рядового спасли сапоги, а Юрке пришлось накладывать швы на рассечённую бровь.
Батальоном, который Юрка осчастливил своим присутствием, командовал тогда пожилой майор Твердохлебов. Закалённый долгими-долгими годами службы в суровом забайкальском климате, майор накрепко свыкся с мыслью, что звания подполковника ему не видать, к жизни относился философски, а к службе – с определённой долей здорового наплевательства, ласково называл солдат «бойчишками» и не докучал им излишними требованиями к дисциплине и внешнему виду. Зато среди гражданского населения Мирной добрых два десятка человек, осевших после дембеля в привокзальном посёлке, по старой памяти называли его батей, приглашали на крестины и просто в гости, что делало жизнь одинокого разведённого майора если не приятной, то вполне терпимой. Не страдающий излишней мнительностью, чуждый всяких суеверий Твердохлебов не придал особого значения инциденту с головой нового ротного – бывает и не такое. Впоследствии он не раз корил себя за то, что не усмотрел в нем грозного предупреждения свыше.
Не успели швы на Юркином лбу как следует зажить, грянула новая неприятность. К Хорошевскому приехала бабушка. До сих пор бабушки никогда ни к кому в Мирную не приезжали – даже к солдатам, не говоря уже об офицерах, поэтому старлей из отдельного сапёрного батальона прославился мгновенно. Целую неделю личный состав всех мирненских частей, повиснув на заборах, наблюдал, как маленький непоседливый старлей чинно выгуливает по единственной кленовой аллее пожилую даму с седой академической причёской. Дневной моцион обычно заканчивался в офицерской столовой, где дама вкушала мороженое и косилась на марширующих по прилавкам тараканов, а вечерний – в гарнизонном клубе, где местный киномеханик Дима без фамилии специально для Юрки и его бабушки крутил фильмы из личного НЗ, озвучивая сразу всех героев.
Когда неделя кончилась, Хорошевский вместе с бабушкой сел в поезд и уехал в Читу, чтобы там посадить старушку в самолёт. Только исключительной Юркиной способностью находить проблемы там, где их быть не может по определению, можно объяснить тот факт, что бабушкин отъезд совпал по времени с традиционным летним наводнением где-то на полпути между Читой и Мирной. То есть добраться до областного центра и отправить бабушку на родину в Тюмень Юрке удалось. А вечерний поезд, который должен был доставить старлея обратно к месту службы, из-за наводнения был уже отменён. Так же, как и все другие поезда, следующие в сторону китайской границы. Причём на неопределённый срок. Не имея средств на гостиницу и обладая от природы общительным и дружелюбным характером, Юрка прибился к стайке вокзальных бичей. Они угощали его водкой, он их – сигаретами, и эта дивная взаимовыгодная дружба продолжалась три дня. На четвёртое утро из тёплой компании Юрку изъял патруль военной комендатуры.
Майор Твердохлебов, получивший из-за этого свою долю неприятностей, отнёсся к происшествию по-прежнему философски и никаких выводов для себя снова не сделал. Он просто в доступных выражениях объяснил Хорошевскому, что за такие штучки недолго угодить под трибунал, и велел убираться с глаз долой. Почти месяц Юрка старательно не попадался комбату на глаза, втайне надеясь, что о нем вообще все забудут.
Но комбат не забыл. Получив авансом нагоняй от командования дивизии по случаю предстоящей грандиозной проверки из штаба округа, Твердохлебов призвал к себе старлея и объявил, что ему, как проштрафившемуся, поручается воздвигнуть недостающие сто метров забора в автопарке – со стороны, выходящей в степь. Причём не только воздвигнуть, но и раздобыть для этого соответствующий материал, а где – это не его, Твердохлебова, забота.
Горя желанием реабилитироваться, Юрка с небывалым рвением взялся за дело. Собственно, заборы строить он умел. Проблема заключалась в том, что строить было не из чего. Можно было бы, конечно, воспользовавшись казённым подъёмным краном, стащить пару десятков бетонных секций из соседних парков. Но их в лучшем случае тут же стащили бы обратно. В худшем – могли бы дать по шее. Поразмыслив немного, ротный нашёл гениальное решение.
Трое суток кое-как отремонтированный канавокопатель, поощряемый пинками и одобрительной руганью, рыл широкую и глубокую траншею вдоль недостающей части периметра. Когда канава была готова, её замаскировали ветками, дёрном и бурой травой, и Юрка лично, для пущей конспирации, притащил из степи несколько засохших коровьих лепёшек. Осмотрев сооружение, Твердохлебов потыкал носком сапога в дёрн, согласился, что от возможных воров и злоумышленников замаскированная траншея защитит нехитрое хозяйство батальона лучше, чем бетонный забор, в щели которого спокойно могла проехать небольшая тачка, и даже одобрительно похлопал Хорошевского по погону.
Первыми в ту же ночь в Юркину ловушку угодили две местные коровы и УАЗик командира дивизии.
Животные проблем не доставили – их хозяева крепко спали и не видели, как поднятая по тревоге Юркина рота выталкивает их скотину из канавы. С УАЗиком пришлось труднее. Самое ужасное, что в момент падения внутри автомобиля находился его хозяин, генерал-майор Ванюшин, который к тому же сильно ушиб копчик. Комментарии генерала были слышны далеко за пределами военного городка.
После этого случая несгибаемый майор Твердохлебов угодил с сердечным приступом на госпитальную койку, где, едва оправившись, написал рапорт о своей отставке.
Назначенный на его место молодой и деятельный подполковник Файзуллаев, получивший звание пару месяцев назад на выпускном вечере в академии, навестил своего предшественника в госпитале, где Твердохлебов и рассказал ему о страшной угрозе, которая таилась в безобидном с виду старшем лейтенанте Хорошевском.
Я стал забывать его лицо. Хотя нет, неправильно, не забывать. Просто если оно раньше всплывало в памяти живым, смеющимся, грустным, в гневе, то теперь я просто представляю фотографию с обелиска.
Мой дед.
Он родился перед войной. Ещё той, Первой мировой. На Урале, в глухом селе. Кроме него в семье было ещё пятеро. «В люди» выбился он один, окончив Пермский педагогический. До института он успел поработать в шахте маркшейдером, где однажды произошёл обвал. Выжил он один. Повезло.
В институте он познакомился с девушкой из Смоленска, сиротой. Потом она стала моей бабушкой.
Они жили небогато, но счастливо, в любви. Господи, если бы нам, нынешним, было бы отпущено хоть четверть такой любви!
В 39-м у них родился сын. Мой отец.
А потом грянула война.
Дед, будучи учителем, имел бронь. Он, не пылкий восторженный юноша, пришёл в военкомат и попросил, чтобы с него бронь сняли.
Его направили во 2-е Орджоникидзевское пехотное училище – высшее образование, всё-таки. Помкомвзвода. Жизнь впроголодь, муштра, учёба. И письма жены, которая, провожая его на войну, заставила его надеть парадный костюм. Чтобы, если не вернётся, запомнить его красивым.
В 42-м немцы прорвали фронт на Юго-Западе и рванули к Сталинграду. Дыры затыкали кем могли. Курсантов, которым оставалось около месяца до выпуска, сняли с учёбы и пешком отправили останавливать врага. На всю жизнь он запомнил пыль той дороги, размолотую сапогами и колёсами и висящую в воздухе, жару, жажду и лошадь с оторванной ногой, жалобно кричащую на обочине.
Месяц их училище держалось неподалёку от Калача. Он был миномётчиком. Там его и накрыло – выбило глаз, ранило в руку – она больше не разгибалась – и в ногу. Но самую почётную солдатскую медаль «За отвагу» он получить успел.
Затем госпитали, госпитали, госпитали… Домой он пришёл в 44-м.
И всю оставшуюся жизнь он работал. Работал как вол, учительствуя, воспитывая детей.
Когда отца призвали на Северный флот, он четыре года отдал мне, двухлетнему баловню, пестуя и любя меня.
Тихий, незаметный и скромный. Никогда не мог что-то потребовать, выбить для себя, взять «на горло».
Не мог смотреть фильмы про войну, кроме «Они сражались за Родину». Глядя его, он плакал.