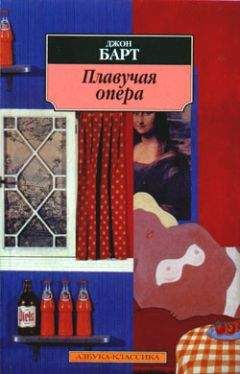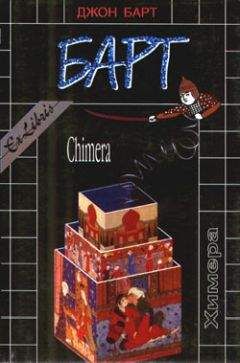– И что же напоминал их запах? – спросила Каликса.
– Противоположность твоему, – сказал я. – Но если бы ты, будучи бессмертной, целую вечность проливала едкий пот в тех бестечках, которые я безубдо обожаю целовать, или же ди разу за все это вребя де убывалась…
– Мне двадцать четыре, – сказала Каликса, – до следующей недели. С этим все в порядке.
Но я не мог поведать ей, где состоялся непритязательный настенный подвиг, ибо точно так же, как влага Леты является общепринятым противоядием от памяти, зловоние дочерей Стикса отлично помогало от воспоминаний о своем источнике. Пемфредо мне только и сказала, что я должен закрыть глаза и руководствоваться своим носом, не открывая первых, пока не буду вынужден заткнуть последний. Чего я и не делал, покуда наконец не умаслил здесь изображенную бригаду инструментоносительниц и не упорхнул прочь – не спрашивай, откуда и как.
– Если у девушки нет никого, кто мог бы ее омыть, – чопорно провозгласила Каликса, – она должна умываться сама.
Предпоследняя панель, целиком по правую от меня руку, была переполнена событиями и нравилась мне больше всех. Сама семичастная и схожая в пропорциях с целым, чьим шестым эпизодом она являлась, на первой своей сцене, в Гиперборее, панель эта изображала, как я поднимаю вверх ужасную голову Горгоны, которую, застигнув ее хозяйку врасплох, мне удалось отсечь в щите легким движением от отражения шеи; на второй, у Гесперид, – как я обратил в камень негостеприимного Атласа; на третьей, четвертой и пятой (все – в Иоппе) – соответственно, как я обратным кроссом слева сразил морское чудовище. Кета, зарившегося на жизнь прикованной к рифу Андромеды; воспоследовавшую за спасением свадьбу, состоявшуюся вопреки протестам Кассиопеи здесь я поведал гостям обо всем, что произошло со мной до тех пор; и блестящую битву в пиршественном зале, разразившуюся, когда мой соперник Финей, который вожделел Андромеду не менее, чем в былые времена Прет Данаю, нарушил ход вечеринки; фреска показывала как я превращаю этого панибратствующего непофила и всю его команду в камень. На шестой панели гептатиха, кульминации из кульминаций, я, вернувшись в Сериф, еще раз призвал к себе на помощь своего врага, спас Матушку и завершил свои подвиги, превратив в камень самого подвигодавца Полидекта. На седьмой представал незамысловатый и пустячный несчастный случай, когда, чуть позже, на легкоатлетических состязаниях в Лариссе незваный зефир искривил полет моего прямо-летящего диска в сторону стоящего на трибуне Дедули Акрисия, тот не поймал игривую летающую тарелку и отправился за ней к Гадесу; сцена эта была столь же растянута по отношению к своему содержанию, как и ее крупномасштабное соответствие во всей семичленной улитке, каковое при всех своих метрах (тридцать три с хвостиком) изображало всего-навсего нас с женой на троне в Аргосе в окружении наших восхитительных и пригожих детей, – этакая показуха к "Персеиде".
Изо дня в день, ежечасно, вновь и вновь всматривался я с момента первого своего пробуждения на элизийском ложе в эти декорации, столь дивные, столь верные моей истории со всеми ее своеобычными персонажами, словно не скульптор изваял их своим резцом, но сама Медуза с верхотуры просторной шестой панели переложила в жильчатый паросский мрамор нашу плоть и кровь. Более же всего из этих картин меня привлекала следующая: весь из золоченых мускулов, твердый как мрамор, я стоял в профиль на теле Горгоны – образчик двадцатилетнего великолепия; волшебные сандалии стянуты ремнями чуть пониже икр; левое колено согнулось, чтобы через мгновение мощно подбросить меня к небу; посреди правого бедра прицеплен закинутый назад короткий и изогнутый меч Гермеса, отклонившийся от горизонтали, как и мое колено, мой пенис (см. ниже) и мои глаза – чтобы не встретиться сквозь ниспадающие из-под шлема Гадеса золотыми локонами кудри с глазами Медузы, чью роняющую капли крови голову я поднял левой рукой высоко вверх. Несмотря на два незначительных отклонения, допущенных небесным скульптором по отношению к классическому реализму (хотя я и согласен, что ситуация не содержала в себе и грана афродизиака, все же художник, я в этом уверен, недооценил мой фаллос; ну а лицо Медузы необъяснимым образом во всем, кроме способной заинтересовать герпетолога прически, являло образец женской красоты!), панель эта была шедевром из шедевров: на нее-то и упал первым делом мой взгляд при пробуждении; ею прикован к месту оставался я и много позже, когда из-за седьмой картины впервые вынырнула моя сиделка-нимфа, чтобы с улыбкой, словно перед алтарем, опуститься у моего ложа на колени.
Все еще скрипучим после барханов голосом я произнес:
– Здравствуй.
– Привет, – прошептала она и на вопрос, кто она такая, ответила: – Каликса. Твоя жрица.
– А, вон оно что. Меня повысили?
Она подняла на меня свои ясные, самые ясные, какие только, как мне помнится, я встречал на земле, глаза и с энтузиазмом сказала:
– Здесь, Персей, ты был богом всегда. Всю свою жизнь я поклонялась тебе – так же, как Аммону и Сабазию. Ты не можешь себе представить, что значит для меня тебя видеть и вот так с тобой разговаривать.
Я нахмурился, но тем не менее тронул ее коротко подстриженные темные волосы и попытался припомнить обстоятельства своей смерти. Каликса не была ни белотелой, как большинство знакомых мне нимф, ни коричнокожей, вроде эфиопки Кассиопеи; не напоминала она, как моя пригожая вдовушка на панелях Шесть (от С до Е) и Семь, вот-вот готовую к метаморфозе иззолоченную куколку, – бронзовая от загара, в своих просвечивающих, в облипку, шортиках, она походила на юную гимнастку – узкобедрая, с крохотной грудью, словно отроковица Артемида, в противовес вполне созревшей женственности Андромеды или, скажем, ее премилой полноте, – тут моя память, как и моя мужественность, зашевелилась, выдавая лживость чудесной буквально во всех остальных отношениях картины Шесть А.
– Это Элизиум, Каликса, или Олимп?
– Небеса, – ответила она, прижавшись челом к моему бедру.
Ни от Афины, ни от своих приятелей-героев, разношерстные россказни которых я анализировал последние лет десять, мне не доводилось слышать об эрекции в Элизиуме, в то время как олимпийцы постоянно казались не менее вздыбленными, нежели гора, на которой они обитают, – итак, я и в самом деле был вознесен! Все еще поглаживая в процессе наблюдения за этим подъемом шейку и затылок своей хорошенькой нимфочки, я заметил, что у стойки моей кровати начинались только стенные росписи, но никак не описываемая ими спираль – та загибалась наверх и золотым завитком сворачивалась на потолке в одну точку как раз над тем местом, где была бы моя голова, сдвинь я ее на соседнюю с собой позицию; привстав же, чтобы посмотреть, сколь близка к цели пылкая Каликса, я увидел ту же самую спираль, вытканную пурпуром на кровати. И – чудо из чудес – когда моя фея проворно вскочила, раскинувшись над этой нижней спиралью, и притянула меня к своему загорелому, подтянутому, совершенно прельстительному животику, я обнаружил, что пупок ее, в общем-то не двудольчатый или четырехлепестковый, как два других наиболее мне знакомых, а, скорее, спиралевидный, копировал эти бесконечно завитые закруты, разворачивающиеся и над, и под конечной плотью, над которой сейчас пировал мой язык.
С божественностью все было в полном порядке. Однако меня вдвойне расстроило, что я оказался бессилен: вдвойне, во-первых, потому что я дважды пытался с Каликсой тут же, по горячим следам, тем же "днем" (я не предполагал, что для нас, бессмертных, может зайти солнце), и, вопреки или благодаря ее исключительному знанию предмета, дважды оказался импотентом; во-вторых, поскольку я так облажал дважды – в смысле и недель и женщин (я припомнил это во второй раз), ни разу до тех пор не оплошав с Андромедой за семь тысяч ночей, – тревожная перспектива на маячившую впереди вечность с нимфой.
– Это не имеет никакого значения, – настаивала сладкопотая Каликса по нескольку раз на каждый последующий день или ночь. – Мне, Персей, просто нравится с тобой быть; на самом деле, одна из моих грез стала явью.
К этому примешивалось кое-что еще: привыкнув в качестве царя и мифического героя к подобающим знакам почтения, я совершенно не привык к почитанию: я не мог отлить без восхищенного взгляда посвятившей себя мне почитательницы (я и не знал, что боги писают совершенно так же, как и простые смертные); она буквально вылизывала начисто тарелки, с которых меня откармливала, дабы я обрел былые силы (в конце концов, отнюдь не амброзия, а фиги, финики, жаркое из барашка и крепкая, смолистая рецина, совсем как дома) (я настаивал потом, чтобы она их мыла); начисто, словно домовитая кошечка, вылизывала вместо купания и меня, вытирая своими (слишком для этого короткими) волосами: подходящее развлечение, когда пребываешь в игривом настроении, а Каликсу, казалось, оно не покидало; чистая трата сил и нервов – когда нет. По правде, мне кажется, что дай я ей волю – и она исправно помещала бы мои испражнения в раку (я и не догадывался, что столь же вульгарно опорожняются и боги).