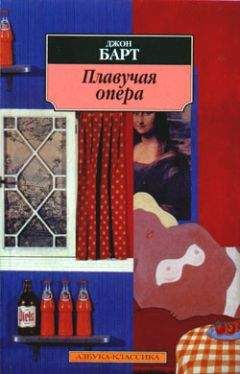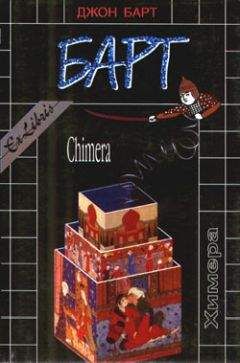– Когда от моего брата пришло второе послание, оно оказалось чудесным повторением того фатального первого шесть лет тому назад; я препоручил царство своему везирю и тут же отправился в путь, полный решимости встретиться с Шахразадой, которая так уломала и заболтала Шахрияра обратно на путь жизни, что он собрался на ней жениться. "Возможно, у нее есть младшая сестра",– говорил я себе; если так, не стану ни о чем разузнавать, не потребую никаких рассказов, не поставлю никаких условий, а смиренно передам свою жизнь в ее руки, расскажу ей все о двух тысячах и двух ночах, которые привели меня к ней, и упрошу ее закончить эту историю так, как ей заблагорассудится, – либо последним всему "доброй ночи", либо (что я могу лишь смутно предвидеть, словно зарю иного мира) каким-то ясным, чудесным и свежим "доброе утро".
Дуньязада зевнула и поежилась:
– Не представляю, о чем это ты говоришь. Неужели ты ожидаешь, что я поверю во все эти нелепицы о безгрудых пилигримах и "трагическом взгляде"?
– Да! – вскричал Шахземан, откидывая голову на подушку. – Они слишком существенны, чтобы быть ложью. Вымысел – возможно, но тот, что истиннее фактов.
Дуньязада прикрыла рукой с зажатой в ней бритвой глаза.
– И чего ты ждешь? Что я тебя прощу? Полюблю?
– Да! – вновь вскричал царь, блеснув очами. – Покончим с ночной тьмой! Со всеми этими страстями и ненавистью между мужчиной и женщиной; со всей этой чересполосицей неравенства и различий! Примем истиной трагический взгляд на любовь! Возможно, она и вымысел, зато самый глубокий и лучший из всех! Храни меня, Дуньязада, как сокровище, – и ты станешь моим сокровищем!
– Умоляю, прекрати!
Но Шахземан пылко настаивал:
– Давай обнимемся; давай не спешить; давай любить так долго, как только сможем, Дуньязада, – потом обнимемся снова, не будем спешить и полюбим снова!
– Это не сработает.
– Ничто не сработает! Но затея благородна; она полна радости и жизни, а остальные пути смертельны. Займемся любовью как равные в страсти!
– Ты имеешь в виду, как бы равные, – сказала Дуньязада. – Тебе ведь известно, что мы не равны. Ты хочешь невозможного.
– Несмотря на твое сердечное чувство? – настаивал царь. – Пусть будет как бы! Возведем это как бы в философию!
Дуньязада запричитала:
– Хочу к сестре!
– Она вполне может быть жива; мой брат тоже. – Чуть спокойнее Шахземан объяснил, что Шахрияр уже ознакомлен с историей и мнениями своего брата и поклялся, что, если Шахразада когда-либо покусится на его жизнь, он поведет себя в общем-то схоже: не то чтобы (поскольку он был двадцатью годами старше и консервативнее) обеспечит своей жене возможность себя убить, но разоружит и откажется убивать ее, дозволив ей в налагаемых общепринятыми нормами пределах свободу, сравнимую с его собственной. Гарем является неизбежно публичной царской традицией; Шахразада сможет брать себе в любовники кого пожелает, но непременно частным образом. И т.д.
– Неужели ты и в самом деле полагаешь, что твоя сестра целую тысячу ночей дурачила Шахрияра со всеми своими мамелюками и дилдами? – рассмеялся Шахземан. – Не очень-то долго продержишься в царях, если не знаешь даже того, что творится у тебя в гареме! Так почему же, ты думаешь, он все это дозволял, как не потому, что полюбил ее слишком сильно и слишком страдал от собственной политики, чтобы ее убить? Она изменила его мнение, ну да, но она его так и не одурачила: он привык думать, что все женщины неверны и единственный способ избавить себя от причиняемых неверностью страданий – насиловать и убивать; теперь он верит, что неверны все люди и, чтобы избавить себя от причиняемых неверностью страданий, надо любить и ни о чем не заботиться. Он выбирает равную неразборчивость; я выбираю равную верность. Оценим же и будем беречь друг в друге сокровище, Дуньязада!
Она сердито – или безнадежно – покачала головой:
– Это абсурд. Ты просто пытаешься заговорить мне зубы, чтобы выпутаться.
– Ну конечно! И конечно, это абсурд! Так обрети же во мне свое сокровище!
– У меня нет больше сил. Надо пройтись бритвой по нам обоим – и дело с концом.
– Храни меня, Дуньязада, храни свое сокровище!
– Мы проговорили всю ночь; я слышу петухов; светает.
– Тогда доброе утро! Доброе утро!
3
Альф Лайла Ва Лайла, Книга Тысячи и Одной Ночи – не история Шахразады, а история истории ее историй, которая на самом деле открывается словами: «И есть книга, называемая „Тысяча и одна ночь“, в которой сказано, что однажды у одного царя было два сына, Шахрияр и Шахземан» и т.д.; кончается она, когда некий царь спустя много лет после Шахрияра обнаруживает в своей сокровищнице тридцать томов «Историй тысячи и одной ночи», в конце последнего из которых царственные супруги – Шахрияр с Шахразадой и Шахземан с Дуньязадой – появляются из своих свадебных покоев после брачной ночи, приветствуют друг друга теплыми «доброе утро» (в сумме восемь), препоручают Самарканд многострадальному отцу невест и записывают на веки вечные «Тысячу и одну ночь».
Если бы я смог сочинить столь же восхитительную историю, она бы повествовала о малышке Дуньязаде и ее женихе, которые проводят за одну темную ночь тысячу других ночей и утром обнимают друг друга; тесно прильнув друг к другу, лицом к лицу, занимаются они любовью, а потом выходят приветствовать брата и сестру утром новой жизни. История Дуньязады начинается в середине; в середине моей собственной я не могу ее закончить – но должна она кончиться ночью, к которой ведут все добрые утра. Арабские сказители отлично это понимали; они заканчивали свои истории не "отныне и навсегда счастливы", а обязательно "пока не пришла к ним Разрушительница удовольствий и Опустошительница обиталищ и не преставились они к милости Всемогущего Аллаха, и дома их пришли в запустение, и дворцы их лежат в развалинах, и другие цари унаследовали их богатства". И никто не знает об этом лучше Шахземана, для которого тем самым вторая половина его жизни окажется слаще первой.
Наслаждаться, целиком и полностью приняв подобную развязку, – безусловно обладать сокровищем, ключом к которому служит понимание, что Ключ и Сокровище – одно и то же. В этом (целую, сестричка) и заключен смысл нашей, Дуньязада, истории: ключ к сокровищу и есть само сокровище.
1
Добрый вечер.
Истории долговечнее людей, камни долговечнее историй, звезды – камней. Но сочтены даже и звездные наши ночи, и вместе с ними канет в вечность и узорочье этого хрестоматийного рассказа давно минувшей земле.
По ночам, когда я просыпаюсь с мыслью, что заброшен в мир, а оказываюсь на небесах, мне вспоминается та ночь, когда реальность поменялась с этой моей мыслью местами. Я давно заблудился, позабыт-позаброшен и выброшен, в Ливийской пустыне; минуло два десятилетия, как я пролетел над этой страной с окровавленной головой Горгоны, и каждая упавшая среди барханов капля ее крови превратилась в змею – я узнал об этом позже: ну мог ли я о том догадаться в свои двадцать и в двадцати километрах над землей? А теперь как раз там я и оказался, на уровне моря, в свои сорок, ощипанный и подпаленный, каждая песчинка в вылинявших сандалиях налилась волдырем, осаждаемый змеями из моего прошлого. Наслали все это на меня, должно быть, как раз те двое из обитающих на небесах богов, с которыми я никогда не ладил: любимчик и баловень моей тещи, песочноволосый Аммон, который и привел вначале на край гибели Андромеду, и бог пива Сабазий, возводивший на меня напраслину, как последний хам, пока я не возвел ему в Аргосе храм. Тут-то я бы и променял Микены на прохладный глоток да клочок тени, где мог бы его посмаковать; я даже взмолился о мошенниках. Делать нечего – я не мог сообразить, где нахожусь или куда направляюсь, совсем потерял нить, начались галлюцинации, ей-ей. Когда-то в своей полетной юности я прочел, до чего уместна помощь рекламы, когда дела заходят в тупик; посему я отпечатал на песке огромное: ПЕРСЕЙ, забыл, к чему все это, – писанина заманивает разум в ловушку; следующее, что я знаю, – на дюнах я оттиснул полукилометровое признание: ПЕРСЕЙ ЛЮБИТ АНДРОМЕДУ. На четырех последних буквах я пошел со своим объявлением под откос; все написанное до них ускользнуло из моего поля зрения и памяти; лишь добавив ЗУ, я вновь оказался на должной высоте, и до меня дошло, как запутал я все, что намеревался прояснить. Борясь с безразличием, я пожарился покамест еще немного на вершине дюны; я умирал – чего ж тут удивительного, что мое SOS переросло из саморекламы в амфисбенское граффити. Но я же был прирожденным корректором и таковым бы, наверное, и умер, – пока я смотрел на то, что написал, с правого поля песчаной страницы, куда я, собственно, двигался, налетел свежий восточный ветерок и засыпал то У, на котором я остановился. Воспользовавшись его подсказкой, я стер все имя целиком, потерялся в зазмеенном пространстве между дополнением и глаголом, продолжал стирать, стирать все подряд, приговаривая – совсем свихнулся – про себя: больше никаких ЛЮБИТ, больше никаких ЛЮБ, сотри с доски все свои старые заблуждения – и себя тоже, убери и себя, все-все. Но к этому времени я забыл, кто я такой, заблудился уже во втором пробеле, который в первоначальном моем наброске был первым: я допресмыкался до последней буквы подлежащего и, покрытый пеной, падая в обморок, в безумном броске оставил над ней змеящийся росчерк…