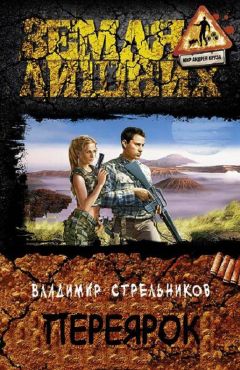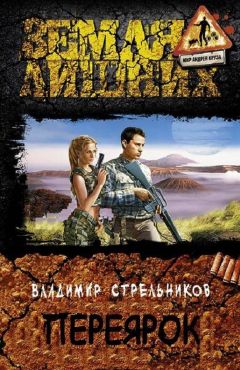Стоим в темноте.
Кругом перепахано.
Дороги нет.
Куда идти – неясно.
Друг мой корчится в бессильном величии.
И снова мигнуло желтым по правую руку. Да не один раз. Как поторопил кто.
2
Мы бежали на призыв, как бегут в атаку.
В темноте.
По минному полю.
С пулеметами заграждения, нацеленными в спину.
Внизу страх, впереди ужас, позади смерть.
Лезло в глаза. Цепляло за одежды. Хрустело под ногой. Сушьё-крушьё, дром-бурелом непролазный. И подмигивало, как подманивало. Как поваживало и подпруживало. Рыбой вело на крючке в подставленный уже сачок.
Стояла в низинке машина, травой обросла густо.
Занавесочки на окнах. Труба от печурки наружу. Дыра спереди фанерой забита. Завалинка подсыпана для тепла. Дверь мхом законопачена. А внутри – пуху натаскано, перьев, листа сухого вдосталь: лежбище, логово, укрытие на зиму.
Обошли, оглядели с сомнением: вроде наша.
В ночи не разобрать.
Сунули руку внутрь, зажгли лампочку, заодно отключили мигалку.
Лежали в машине двое, калачом свернулись в пуху, как собаки дворовые, нос в колени уткнули, и повизгивали легонько, мелко подергивали ухом, ногой сучили во сне.
– Это кто же такие, – чванливо сказал мой сокрушенный друг, – да в чьей же машине?
Гуднул что есть силы.
Взлетели. Головами врубились в потолок. Заметались по стенам. В тесноте переплелись конечностями. Руками загородились.
– Ты чё пугаешь?..
А мы – строго:
– Кто будете?
– Клохтун да ерестун.
– Какого племени?
– Сатанинского.
– Чем докажете?
– Поведением.
Нас не удовлетворило.
– Отгадку! Быстро! Маленький, красненький, на бабе сидел, на мужика захотел.
А они без промедления:
– Клоп!
– Верно, – говорю. – Вылазь из машины.
Вылезли. Жались друг к другу. Потирали озябшие коленки. Взглядывали боязливо. Друг мой прохаживался перед ними, как старшина перед строем.
– Так-так-так... С поста сбежали?
– Мужики погнали, – бормочут. – С ими свяжись... Сегодня их ночь! Мы уж тут, в дрёме, прокантуемся до весны...
– Да вы что! – говорю. – А миром владеть?
Развздыхались:
– Это не мы... Это мудреные черти. Алиох, Асмодеос, Антострапалос, Зерефер, – не нам, босоте, чета. Одним в яме сидеть, другим миром владеть.
– Ты погляди, – сказал мой сокрушенный друг. – Везде одинаково. Чего же тогда душу беречь? Для кого? Случаем не покупаете?
Тут он и появился, зыристый мужичок с пузатым портфелем. Как набежал впопыхах. Запыхался. Рот поразевал судорожно. Оглядел – обтрогал.
– Покупаем, – зачастил. – Новые и подержанные. Чиненые и ненадеванные. Латаные и перелицованные. Получите задаток!
– Ха, – увильнул мой друг. – Да я не продаю пока...
Но тот уже дергал антенну из портфеля, выпрастывал микрофон на веревочке.
– Намазывается, – передал в эфир. – Созревает помаленьку.
Тут он увидел двух дезертиров.
Они оседали заметно на ослабевших ногах, клацали без остановки зубами.
– Ну, – сказал зловеще. – Что мне теперь с вами делать? Кого в меду утопить, кого в пепле удушить?
Те и попадали на коленки, заскороговорили с перепугу в свое оправдание:
– И при Прокопе кипит укроп. И без Прокопа кипит укроп. И ушел Прокоп, а кипит укроп…
– Вы мне зубы не заговаривайте, – сказал брезгливо. – С Прокопом разберемся отдельно. Марш в яму!
– Да там мужики, – заканючили. – С пукалкой... Лучше уж тут кончи!
– Нет, – говорю, – мужиков. Города пошли брать. Областные и районные центры. Вряд ли теперь вернутся.
– Ах, – позавидовали. – Вот бы и нам с ими...
Пошлепали во мрак безо всякой охоты.
– Распустились, – сказал мужичок. – Разбаловались. Времена пошли – пугнуть некем.
– А раньше как?
– Раньше? Попом пугали. Монахом. Первым прохожим. Закрестит ужо! Я вам так скажу: естественный был отбор. Выживали сильнейшие. Богатыри. Летуны. Трупоядные бесы. Леший Володька! Чирий Василий!! Ты ему слово, он тебе семь. Ты ему семь, он тебя в ад. А нынче кто? Шалды-балды. Умирашки. Заморенная коровья смерть. Мельчаем и вырождаемся, граждане. Я вам больше скажу: где людям плохо, там и нам неладно.
Но мы уже лезли в машину.
На согретое еще место.
Бухнулись в пух. Зарылись в перья. Подсыпали с боков лист. Заночуем себе до весны.
– Я не прощаюсь, – сказал мужичок. – Только свистните.
– Носом, – пообещал мой друг. – Только носом.
И засопели согласно.
3
Мы опускались в сон, как в бережно подставленные ладони.
Как с дальних, холодных небес в пышные, податливые снега.
Как высохший, истоненный лист в зеркало лесных вод.
Как воспаленной и обожженной кожей в сладкую остуду тишины и слабости.
И вот уже мы задергали ухом, засучили ногой, взвизгнули легонько под первое, зыбкое еще сновидение.
Шорох прозвучал обвалом. Каменной осыпью. Взрывом порохового погреба. Согласованным воем драных, шелудивых котов.
Мы распластались на стенках машины. Безумным глазом ввинчивались в темноту. Отгораживались руками. Отпихивались ногами. И что-то упрямо шуршало снаружи, старательно и с натугой.
– Включи фары, – прохрипел мой друг.
Я включил.
Гриб лез из земли. Гриб пробивался упрямо округлой головкой. Гриб раздвигал спекшуюся почву, переплетение трав, коркой ссохшийся лист. Гриб вырастал на глазах, храбрым одиноким солдатом в красном, туго натянутом колпаке.
– Ха, – сказал мой друг, позабыв про страхи. – Неплохо бы и поесть...
Самовар у нас был. Вода в канистре осталась. Гриб срезали под корень. Крупица нашлась в рюкзаке. И лаврушка. И соль в тряпочке. Мигом спроворили супец, гриб с крупицей, и дух пошел из самовара – на все окрестности. Густой. Сытный. Наваристый. Проглоти язык.
– Тебе, – сказал мой друг и черпнул поверху жижицы.
Сунулась из темноты рука, ногти сто лет не стрижены, миску подставила под черпак.
– Это еще кто такой?
А оно сопит, слюну сглатывает, рожу отворачивает старательно.
Пришлось отлить супчику.
– Мне, – сказал мой друг и черпнул понизу гущицы.
Сунулась из темноты другая рука, шерсть сто лет не чёсана, тазик подставила под черпак. Пыхтит, кряхтит, рожу подолом перекрывает.
Плеснули и ему.
Тут и пошло. Тазик за тазиком. Не разглядишь кому! Последними сунулись две руки, лохань держат бездонную. Им остатки пошли, отлили через край. А они чавкают вокруг, давятся, урчат довольные. Чуем, удался супец. Супец что надо. Угодили. Самое оно объеденье. А попробовать – очередь не дошла.
– Эй, – говорю, – а нам чего?
– Другой сварим.
Самовар у нас был. Вода в канистре осталась. Крупицы еще нашлось. И соли с лаврушкой. Мигом спроворили новый супец, вода с крупицей, и дух пошел от самовара – пожиже прежнего.
– Тебе, – сказал я и черпнул поверху.
Снова сунулась миска: за сладкой добавкой. Сунулась за ней другая: по то же дело. И пошло – только черпаком махай! Вылезла напоследок лохань о две ручки: туда остатки ушли. И опять они чавкают, чмокают, схлебывают, как стенки языком вылизывают. Ничего супец. Могло быть и хуже. Не так наварист, да так горяч. А хлебнуть – опять нам не достало.
– Вари еще!
Самовар у нас был. Воду вылили до капли. Лаврушка еще нашлась. Мигом спроворили супец, вода с лаврушкой, и духом не потянуло от самовара, ни на самую малость. Такой суп только пучит пуп.
– Ну, – говорю, – есть желающие?
А они икают, поганцы, морды воротят, рыгают, вздыхают сытно, зубом цыкают в ночи: набуровились, чужеспинники, за наш счет.
– Станут они тебе, – сказал мой сокрушенный друг. – Станем мы им.
Полез обратно в машину.
– Туши фары!
И снова мы лежали в пуху. Дрема утягивала неприметно. Руки отпадали с ногами. Голова без забот.
– Поначалу, – заворковал он из забытья утомленным шепотом, – едят горячее. Щи, борщ, взвар, селянку с похлебкой, ушку стерляжью. Супы не едят. У супа ножки жиденьки. За горячим идет холодное: стюдень, дрожалка, желе. А там и тельное: котлеты, колобки из рыбы, визига с икрой, белая рыбица паровая. Потом жареное: гуси с журавлями, лебеди с цаплями, курята с утятами, кулики да тетерева. Кушайте, гости, не стыдите, рушайте лебедя, не студите. А там и оладьи, блины с маслом, кисель с патокой. Вино, ренское, рамонея, балсам, тентин, и браги, и бузы, и квасу, и меду переваренного от пуза... Слушай, – подал голос. – Чего это они на супец навалились? Как оголодали, сто лет не ели.
– Проваливаются, – пояснил я. – Сквозь землю. Всякую осень, до весны, в Ерофеев день. И на дорожку – горяченького.
– Ты-то откуда знаешь? – шепнул без сил.
И посвистел расслабленно: сначала губами, потом носом.
– Знаю, – шепнул я и тоже посвистел.
– Ты черт, – сказал убежденно. – Опрокидень. Змея Гарафена. Будешь проваливаться – меня не забудь.