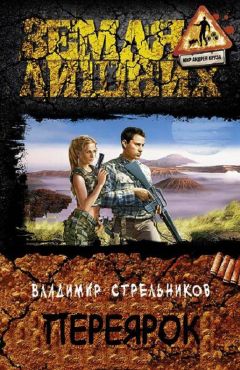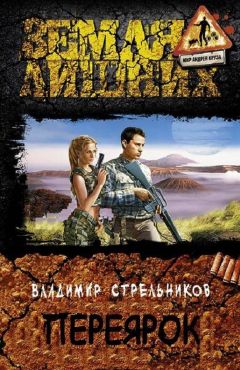Степа-позорник, дребезга рязанская, подался в зятья к утешенной вдовушке, терпеть покорно тычки-попреки. Это он водил нас в сельсовет, к председателю, отхлопотать пенсию побольше. «Я людей из Москвы вызвал, – говорил важно. – От службы оторвал...» А председатель глядел тускло на двух столичных штучек, мятых, драных, трепаных, с ружьями за спиной, соображал туго: то ли милицию звать, то ли шапку ломать.
Старшины-сверхсрочники, души смазные, попались нам в плоскодонке, ночью, на разливе Оки. Лодочник пьяный. Мотор скис. Борта вровень с водой. Народу в лодке битком. Куда ехать – неизвестно. Ноги мокрые. Вещи отсырелые. Ветер пронзительный. Судорога по воде. Потонем – и знать не будут. Помню еще, наварили мы с ними ведро картошки, истолкли с тушенкой, хозяин принес с погреба мятые соленые огурцы, авоську с бутылками пододвинули. Старшинам мы не показались: мало пили, много закусывали.
Бабка с хлебами жила под Угличем. Лампа висела посреди избы, с потолка до пола, медная, керосиновая, надраенная до яркости, невозможных размеров и красоты. Словно Жар-птица хвост свесила. Попросили продать – внуку обещано. Попросили хлебушка – накормила досыта. Подарила зато иконку – деньги грех брать. Подарила стекло ламповое, старинное, с вензелями поверху. Так и шли потом по деревне: у одного икона в руках, у другого стекло от лампы. «Блаженные», – умилялись из окон старухи. А может, это было не под Угличем? Может, это была Колокша? Теперь не припомнить.
Сеня-обмылок, каличь борисоглебская, проскакал мимо нас на кожаной подушке, ухоженный, умытый, обстиранный, и даже подушка была надраена до блеска, должно быть, кремом для обуви. Шла возле него нестарая еще женщина, строго глядела перед собой, голову не воротила на липучие взгляды, руку держала на его голове. Поворотили за угол, сгинули, зацепились в памяти.
Кто еще?
Терешечка, гулящий детинка с озера Мстино, год получил за бродяжничество.
Вася-биток, производитель вышневолочский, работал шофером в доме отдыха, не оскудевал силой.
Петя, дур-человек калужский, позабылся в подробностях, как и не существовал вовсе. Это он сказал вроде: «У нас тут две церкви: Георгия на Верху да Клары Цеткин». А может, не он.
Избу мою, облюбованную, из села Покровского, продали кому-то: я еще там был, ждал разрешение на выезд, – застонал, как сказали.
Друга не увидеть.
В деревню не съездить.
Хлеба не поесть.
Остался складень, медный, литой, лики на нем затертые кирпичом толченым: их умывали под праздники.
Складень не выпустила таможня.
Остался казак на коне, из крашеного дерева: нелепый, длиннолицый, долгоносый и густобровый, с ружьем за плечом, с кожаной уздечкой, прибитой гвоздиком к лошадиной морде.
Казака провез обманом.
Осталась Библия с чердака, мышами изгрызанная. Библию отреставрировали за мой счет, листы подклеили папиросной бумагой, одели в переплет.
При выезде оценили ее в двадцать пять рублей.
– За что? – говорю. – Она же моя.
– Вашего тут ничего нет, – ответили сурово.
– Да она бы сгинула на чердаке! Это я ее спас.
– Гражданин, не нарушайте естественный процесс.
Пошел. Заплатил. Вывез.
На таможне их было пятеро.
Кожедёр, Сучий Потрох, Худой, Драный и Пастьпорванский.
– Это зачем? – и брякнули боталом.
– Корове, – говорю, – привешивать.
– У вас там будет корова?
– Как знать...
Посомневались. Посовещались. Кликнули начальника. Зыристого мужичка с пузатым портфелем.
– Так, так, – сказал укоризненно. – Лежал, лежал, сорвался да побежал. Попрошу отгадку на выезд.
– Не знаю, – говорю. – Я, что ли?
– Снег, – хохотнул. – После зимы. А ботало мы вам не выпустим. Железяку прежде вынем. Не положено по правилам, чтобы в багаже брякало.
Отогнули лепесток, вынули железяку, и ботало замолчало.
Лежит у меня на полке, не бренчит больше, сколько его ни качай.
Будто голос потеряло при переезде.
И друг мой уже не узнает, где же теперь я...
Иерусалим, 1982 – 1983