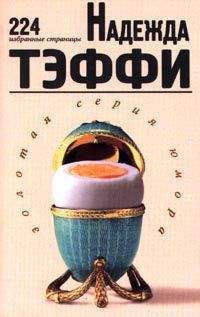лампу разбила, так он на нее и перекинулся. Барыня потом его успокоила.
— Дети,- говорит,- может, и не поняли, к чему это. Я им,- говорит,- так объясню, что ты с ума сошел и бумажки стрижешь.
Ну, миновала беда.
А потом начнут, бывало, из школы старшие детки съезжаться. То-то радость. Первым делом, значит, смотреть, у кого какие отметки. Ну, конечно, какие же у мальчиков могут быть отметки. Известно, единицы да нули. Ну, конечно, барыня на три дня в мигренях. Шум, крики, сам разбушуется.
— Свиней пасти будут, к сапожнику отдам…
Известно, отцовское сердце детей своих жалеет -
кого за волосы, кому подзатыльника.
А старшая барышня с курсов приехала,- что такое? Смотрим, брови намазаны. Ну и показал он ей эти брови.
— Ты,- говорит,- сегодня брови намазала, а завтра пойдешь да и дом подожжешь?
Барышня — в истерику. Все ревут, у барина самого в носу жила лопнула. Ну, значит, повеселились.
Смотришь, и рождество подошло.
Послали кучера елочку срубить. Ну, кучер, конечно, напился да вместо елки и приворотил осину. Спрятал в амбар, никто и не видел. Только скотница говорит в людской:
— Этакую, мол, елку господа в этом году задумали.
— А что? — спрашивают.
— А,- говорит,- осина.
И такое тут пошло. Барин-то не разобрал толком, кто да что, взял да садовника и выгнал. А садовник пошел кучера бить. Тот хотя и дюже пьяный был, однако существо ему вывернул.
А повар, Иван Егорович, то было смотрел-смотрел, да взял да заливное все как есть в помойное ведро вывалил. Все равно, говорит, последние времена наступили!
Н-да, очень весело у нас на рождестве бывало!
А начинают гости съезжаться, тут-то уже совсем весело. Пригласят шесть человек, а напрет одиннадцать. Оно, конечно, не беда, на всех хватит, только барин-то у нас любил, чтобы все в аккурате было. Он, бывало, каждому подарочек склеит какой-нибудь такой обидный. Если, скажем, человек пьющий, так ему рюмочку, а на ней надпись: «Пятнадцатая». Ну, тому и совестно. Детям- либо розгу, либо какую другую неприятность. Ревут, конечно. Да нельзя без этого.
Барыне банку горчицы золотом оклеил и надписал: «От преждевременных морщин». А сестрице своей лист мушиного клея: «Для ловли женихов».
Ну, сестрица, конечно, в обморок, барыня в мигрени. Ну, в общем-то ничего, весело. Гостям тоже всякие штучки. Ну, те, конечно, вида не показывают. У иного всю рожу в сторону сведет, а он ничего, ногой шаркнет, веселится.
Ну, и нам, прислугам, тоже подарки раздавали. Иной раз ничего себе, хорошие, а все-таки осудить приятно. Как, бывало, свободная минутка выберется, так и бежим все в людскую либо в девичью — господ ругать.
Все больше материю на платье дарили. Ну, так вот, материи и разбираем. И жиденькая, мол, и цвет не цвет, и узка, и мало, и так, бывало, себя расстроим, что аж в ушах звенит.
— Скареды!
— Сквалыги!!
— Работай на них как собака.
— Ни дня, ни ночи.
— Благодарности не дождешься.
Очень любили мы господ поругать.
А они, как гости разъедутся, тоже вокруг стола сидят и гостей ругают. И не так сели, и не так ели, и не так глядели. Весело! Иной раз так разговорятся, что и спать не идут. Ну, я, как все время в комнатах, тоже такое словечко вверну. Иногда и привру маленько для приятности.
А утром, в самое рождество, в церкву ездили. Ну, кучер, конечно, пьян, а садовника выгнали, так и запрячь некому. Либо пастуха зови, либо с садовником мирись. Потому что он хотя и выгнанный, а все равно на кухне сидел, и ужинал, и утром поел, и все как следует, только что ругался все время. А до церкви все-таки семь верст, пешком не добежишь. Барин с сердцов принялся елку ломать, да яблоко сверху сорвалось, по лбу его треснуло, рог набило, он и успокоился. Оттянуло, значит.
За весельем да забавами время скоро бежит. Две недельки- как один денек. А затем опять старшеньких в школу везти.
За каникулы-то разъедятся, разленятся, родителям грубить начинают, в школу им не хочется.
Помню, Мишенька нарочно себе в глаза чернила напустил, чтобы разболеться. Крики, шум, расстроились. Не знают, что прежде — пороть его аль за доктором гнать. Чуть ведь не окривел. А Федю с Васенькой в конюшне поймали — хотели лошадей порохом накормить, чтобы их разорвало и не на чем в город ехать. Ведь вот какие.
Вот и кончилось рождество. Пройдут празднички, и вспомнить приятно.
Эх, хорошо было!
Старуха-лавочница, вдова околоточного и богаделенская старушонка пьют чай.
Чай не какой-нибудь, а настоящий постный, и не с простым сахаром, который, как известно каждому образованному человеку, очищается через собачьи кости, а с постным, который совсем не очищается, а, напротив того, еще пачкается разными фруктовыми соками с миндалем.
У каждой из трех собеседниц лицо особое, как полагается.
У лавочницы нос сизый, нарочно, чтобы люди плели, быдто она клюкнуть любит.
У вдовы околоточного глаза пронзительные и смотрят все на то, на что не следовало бы: на лавочницын нос, на прореху в юбке, на дырку в скатерти, на щербатый чайник.
У богаделенки лицо «обнаковенное», какое бывает у старух, век свой трепавшихся по господам, вроде тарелки, на которую кое-как посыпано какой-то рубленой дряни; все меленькое, все кривенькое, все ни к чему.
— Н-да, сла-те господи,- говорит богаделенка.- Вот дожили и до поста.
— Только нужно и то понимать, что пост человеку не на радость послан, а на воздержание плоти и крови,- подхватывает вдова и косится на большой кусок постного сахара, который богаделенка подпрятала сбоку под блюдечко.
Богаделенка деликатно направляет разговор по другому руслу:
— Очинно отец Евмений хорошо служит. Благолепно.
— Что служит хорошо, с этим не поспорю,- обиженно поджимает губы вдова,- ну, что круглый пост рыбное есть, это уж чести приписать нельзя.
— Оны ученые. Их учить нечего, что можно, чего нельзя,- успокоительно замечает лавочница.
— Пусть ученые. Этого никто от них и не отнимает. У меня у самой дочка прогимназию кончает. Ну, чтобы я допустила себя до рыбного, так легче мне живой в гроб лечь.
— Господа всегда постом рыбу кушают,- говорит богаделенка, и чувствуется, что хоть и грех это, а господами она гордится.- Уху варят с ершом, расстегаи пекут, осетрину варят, сига коптят. А у Даниловых нельму разварную делали.
— Не-ельму? Да такой и рыбы-то вовсе нету,- обиделась вдова.
— Из Сибири привозили.
— Еще что выдумаешь! Язык без костей! Из Сибири ей рыбу повезут.
— А я,- вздохнула лавочница,- очинно рыбу люблю. Особливо солоную. Солоная рыба прямо смерть моя…
— А взять бы тебе осетринки, да залить бы ее…
— Милая! — с чувством отвечает лавочница.- Милая! Осетрина-то ведь кусается! Кусается осетрина-то!
— Ну, хошь судака. Можно тоже и судака залить.
— Кусается судак-то нынче. Очень даже кусается.
— Ну, леща возьми. Из леща тоже можно, коли его хорошенько…
— Кусается лещ-то…
— И что это у вас все кусается! Больно вы пужливы,- острит вдова.
Лавочница вздыхает глубоко.
— Вот муж был жив, так и рыбку ели, и ничего не боялись. Достаток был, и никаких санитаров в глаза не видывали. А нынче ходят да разнюхивают. Один придет понюхает, другой понюхает. Тьфу! От одних от ихних носов товар у меня, гриб, плесенью пошел. Товар нежный, рази он может человецкий нос перенести. Худо стало теперь. Муж-то у меня был молодой кр-расавец, мужчина во всю щеку. Раз это случилась с ним беда. Шел он на почту деньги за товар отправлять; тысячи полторы было с ним. А почта тогда в старом доме была, от нас недалеко; оврагом надо было идти да мимо выгона. Место пустое. Он с собой всегда и пистолет брал. Храбрый был, одно слово, кровь с молоком. Идет это он, вдруг, откуда ни возьмись, парень перед ним. «Стой,- кричит,- не то дух вон». Остановился муж. «Чего,- говорит,- тебе надоть?» «А отдавай,- говорит,- мне денежки свои все какие есть, да живо поворачивайся, мне,- говорит,- проклаждаться некогда». И что бы вы думали? Другой бы напужался бы до смерти. А муж-то мой хоть бы что. Преспокойно вынул деньги да и отдал их мошеннику-грабителю. Тот деньги взял и строго-настрого заказал людям сказывать. Ну, муж вернулся домой, все двери на запор, да шепотком мне и рассказал. А больше никому. Уж и удивлялась же я! Другой бы на его месте невесть бы чего со страху натворил. И кричал бы, и стрелял бы, и защищался бы, а он хоть бы что. Этакого другого — поискать, не сыщешь. Вот и помер. Не живут хорошие люди на свете!
— Н-да,- вздыхает богаделенка и подымает глаза на грязный потолок.- Такие-то, видно, и там нужны!
— Говорили, быдто опился, оттого и помер,- вставляет вдова, безмятежно глядя на лавочницын нос.- Мне что! За что купила, за то и продаю.
— Ну, это ты оставь,- окрысилась лавочница.- Муж мой с наговору помер, а не с перепою. Это тебе грудной младенец скажет, не то что…