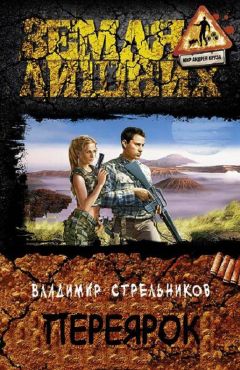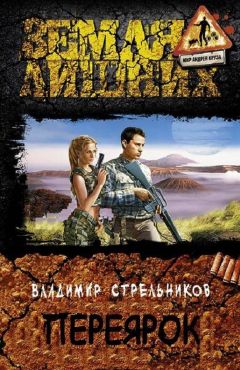Сидел на кожаной подушке мужчина безногий – не выше пенька, курносый, ясноглазый, волос на голове легкий, закрученный, стружкой со смолистой сосны, кланялся-перекувыркивался лбом до земли, клал перед собой яйцо куриное, бубнил-бормотал, как тормошил-встряхивал, убеждал-умолял:
– Кто этому месту житель, кто настоятель, тот дар возьмите, а меня простите: не ради хитрости, не ради мудрости, но ради добра и здоровья, чтобы никакое место не шумело, не болело...
Занудел натужно покалеченным нутром.
Вышла на зов женщина видная, нестарая, встала, руку на голову его опустила, пообещалась нараспев:
– Замыкаю я все недуги с полунедугами, все болести с полуболестями, все хворобы с полухворобами, все корчи с полукорчами... Крови не хаживать, телу не баливать.
Дернулся обидчиво. Поглядел изнизу. Блеснул непролитым глазом. Нуд не оборвал.
– Груня, я тебе не нужон.
– Нужон.
– Груня, я тебе не пригож.
– Пригож.
– Груня, я тебе не по мерке.
– По мерке.
Отвернулся. Набычился. Комок сглотнул.
– Груня, я тебе не сгожусь.
– Сгодишься.
– Груня, меня обидеть легко.
– Я им обижу.
– Груня, – сказал строго. – Я жить хочу.
– Ясное дело, – сказала. – Пошли, что ли?
И пошагали себе.
Она идет, он – на подушке прыгает, колодками от земли толкается.
Человек не человек, жаба не жаба.
И рука ее – у него на голове.
– Груня, тебе мужик требуется.
– А то нет.
– Груня,ты меня не бросай.
– Стану я.
И нет их.
А нуд остался.
Нуд от прожитой жизни.
Обгрызанной, порезанной, попиленной, перекошенной и надорванной, перекроенной походя, переломанной случаем, задавленной и затоптанной без спросу.
«Что не едешь, что не жалуешь ко мне, – без тебя, мой друг, постеля холодна...»
6
Молния ударила беззвучно.
Первая самая, как серпом по небу.
Что-то двигалось там, в отдалении, куда не пробивали наши фары, жуткое, невозможное, глазу запретное, нудело грозным, согласованным хором, и зарницы пыхали, будто небо ахало, и туча – угольным пологом – исподволь находила на наш мир.
Прошуршало катышем мохнатое, вздыбленное, фыркающее искрами, – с писком нырнуло под машину.
Проскакало тощее, голенастое, пяткой вперед, морда сплющенная, ребром острым, – в ужасе метнулось в кусты.
Пронеслось косым лётом перепончатое, острокрылое, опало донизу, взметнулось поверху, – с воплем врубилось в купу ветвей.
А впереди нудело и нудело, тонело и возгонялось, ввинчиваясь на такие верхи, с которых нет уже возврата, – разве что через обмирание, корчи, падучую, кровь горлом, инсульт и инфаркт.
И молнии полоскались в истерике, как серебристые длинные рыбы в удавке невода.
Но грома еще не было.
Срок не доспел.
– Это чего там? – тихо спросил мой сокрушенный друг, перекашиваясь в слабине испуга.
– Жизнь, – ответил зыристый мужичок. – Во всей ее полноте.
– А поглядеть можно?
– Поглядеть нужно. Включай дальний свет.
– Боязно, – говорю.
А он – резонно:
– Так-то еще боязней.
Вырвались из машины два столба. Смаху пробили пространство. Воткнулись в дальние кусты. Растеклись белесым бельмом. Высветлили фон и мурашами отозвались на спине.
Там, далеко, на краю видимости, гнулась и хрипела в хомуте и постромках давишняя бабища-курвяжища, голая, взмыленная, лохматая, груди – кошелями донизу: надсаживалась, волокла здоровенную соху, отваливала пласт на сторону, и ремни уже вдавились до костей в рыхлое, податливое тело.
Следом за ней кучно, зло, решительно шагали бабы в одних рубахах, с распущенными волосами, грозно размахивали ухватами, кочергами, косами, ныли угрожающе на высокой ноте через поджатые губы, яро обхлестывали жгучим кнутом.
– Опахивают, – пояснил мужичок пуганым шепотом. – Борозду ведут. Вкруг деревни. Верное средство от мора, чумы, налогов, мобилизации, скотского падежа, инструкторов-инспекторов, от прочей сторонней напасти. Сидеть тихо. Голос не подавать. Увидят – засекут.
Дождичек засикал вяло.
Гром воркотнул нехотя.
Трава подмокла заметно.
Сохой поддело за валун.
Ноги скользят. Бабища тянет. Эти ее секут. Она их материт. Соха ни с места.
Ожесточились: кнутовищем ее, кочергой, ухватом, по животу, по ногам, поперек спины. Чеботом под зад.
На колени упала. Груди на землю легли. Жилы вздулись на шее. Рычит, сипит, пуп надрывает, валун выворотить не может.
Дождь припустил. Косохлёст с подстёгой. Молнии свищут. Гром – колотушками.
Хрипит. Пену пузырит. На пузе ползет. За землю ногтями цепляется. Кровь из-под ремней проступает. Валун поддается нехотя, упрямый, круглолобый, на много пудов валун.
А бабы остервенели, распалились, забивают без жалости – по голове, под ребра, по глазам, как лошадь ледащую: из постромок да на живодерню.
Корчится. Корячится. Грязью облепляется. Землю зубами грызет...
Потускнело вдруг.
Опала видимость.
Скисал на глазах аккумулятор.
Свет дальний – свет ближний – свет никакой...
И на издохе, там, вдалеке, над голизной тела – коса молнией.
Хакнуло сверху. Небеса разломило. Колун вогнало в дерево. Развалило донизу. Воду стеной обрушило.
Вопль страшный. Рёв дикий. Страх звериный.
– Заводи! – орет мой сокрушенный друг. – Живо!.. Мы за нее опашем!
– Не заводится! – ору. – Аккумулятор сдох!..
– Чтоб тебе... Навались-толкай!
Выскочили из машины. Кричим. Хрипим. Скользим. Надрываемся. Жилы на шее дуем. Пупы развязываем. Машину стронуть не можем.
Молнии нас секут.
Гром кулаками молотит.
Водой пробирает до костей.
Ветром нещадным.
– Ребятушки, – суетится зыристый мужичок. – Вы чего? Не посидели, не поговорили.
– По-од-соби!..
Обежал кругом. Портфель под колесо кинул. Навалился плечом. Пошло-поехало через силу.
– Где баба? – кричит мой друг. – Где соха? Где все?..
Мокрые и заляпанные. Злые и напуганные. Земля раскисает на глазах. Молнии без конца. Вот-вот вдарит колуном, развалит надвое.
Катим неизвестно куда.
– У меня дети! – кричит мужичок. – Жена на сносях! Овдовеют-осиротеют...
– Не овдовеют, – сиплю с натугой. – Молния праведников выбирает.
А он – плаксиво:
– Ты почём знаешь?
– Знает, – сипит мой друг. – Чего не надо, он всё знает.
Сказал – обидел.
Небо провисшее. Земля раскисшая. Щель посередке, хоть ползком ползи. И мрака-непотребства в избытке.
А мужичок осмелел:
– Решайте, – говорит. – Только по-быстрому. Не то тут останетесь. До весны.
– Это еще почему?
– Провалюсь скоро. Кто вас выведет?
– Кто-никто.
Толкаем дальше. Но уже без охоты.
– Имейте в виду, – торопит. – У нас очередь. Наплыв желающих. Не вы одни. Стал бы возиться, да прикипел к вам.
– Откипай давай.
И посвистели чуток. Складно да ладно.
Напоследок хоть покуражиться.
Забежал вперед. Встал на пути. Руки раскинул.
– Вы же видели. Вы всё видели: ничего не утаил... Нет разницы между чертовщиной и жизнью. Без вас нет и нас. Но без нас и вы полиняете. Так стоит ли держаться за бессмертную душу? Я вас спрашиваю: стоит или не стоит?! Отвечайте немедленно!
Замедлили. Плечом поддаем без пользы. Раскисаем в сомнении.
Тут хлебом пахнуло.
Гордо и торжествующе. Широко и победно.
Через заговоры, блаз, мороку, сухоту, порчу, изурочанье.
Будто насовсем откинули заслонку, поддели его на лопату да и пошли кидать на стол, на холстинные полотенца, каравай за караваем, что радость за радостью. Пышные. Темные. Пропеченные. Густо запашистые. Хлеб на стол, и стол престол.
Туча уходила.
Гроза утихала.
Гром выдыхался.
Молнии не доставали до земли.
И полегчало заметно, будто пошло под уклон.
– Я вас в последний раз спрашиваю! – срывался на визг зыристый мужичок и отступал задом. – Стоит ли держаться за бессмертную душу при всеобщем непотребстве? – И закончил патетически: – Нет, граждане, не стоит!
– Шишига прав, – сказал на это мой сокрушенный друг .
– Прав, – говорю. – Куда денешься?
– Раз-два, взяли!
И мы переехали сердешного.
ГЛАВА ПЯТАЯ
КТО ВЕТРОМ СЛУЖИТ, ТОМУ ДЫМОМ ПЛАТЯТ
1
Вот начинал я рассказ, – осилю ли?
Вот продирался с трудом, – а надо ли?
Вот подступаю к концу, – а не грустно ли?
Рассказ ли это? Я ли? Жизнь ли моя?
Тишь в миру.
Благодать.
Покой безбрежный.
Рассвет пугливый.
Прогал в облаках.
Мы шли по дороге, ободранец с обшарпанцем, волглые, сырые, иззябшие, в ботинках хлюпает, под рубахой мокро, и волокли на лямках, по бурлацки, бесполезную теперь машину. Стекла нет. Колесо спущено. Капот промят. Бока исцарапаны колючками. Внутри плещется вода. И парок курился от наших голов: просыхали на холодке.