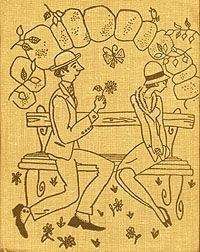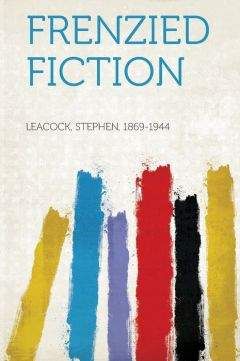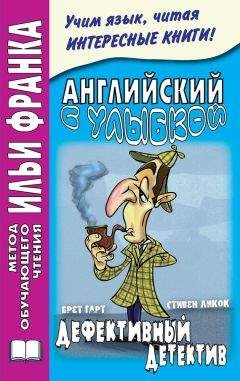— Понимаю. И прошу извинить меня, — сказал он. Мы помолчали.
Итак, я выиграл первое очко. Я выяснил, что где-то у меня имелось «старое пепелище», посетить которое мне хотелось не так уже сильно. На этом фундаменте уже можно было построить какое-то здание.
Вскоре он заговорил снова.
— Время от времени, — сказал он, — я встречаю кое — кого из старых товарищей. Они вспоминают тебя и интересуются, что ты теперь поделываешь.
«Бедняги», — подумал я, но не сказал этого вслух.
Я понял, что настал момент нанести сокрушительный удар. И, применяя метод, которым всегда пользуюсь в подобных случаях, отважно ринулся на противника.
— Скажи, пожалуйста, — начал я с оживлением, — где сейчас Билли? Знаешь ты что-нибудь о Билли?
Право же, это надежный ход. В каждой старинной компании есть свой Билли.
— Конечно, — ответил мой друг. — Билли хозяйничает на ранчо в Монтане. Я видел его весной в Чикаго. Он весит около двухсот фунтов — ты бы ни за что не узнал его.
«Разумеется, не узнал бы», — пробормотал я про себя.
— А где Пит? — спросил я. Этот прием тоже был вполне надежен. Питы бывают повсюду.
— Ты имеешь в виду брата Билли? — спросил он.
— Вот, вот, брата Билли — Пита. Я частенько вспоминаю о нем.
— О, старина Пит уже не тот, что был, — ответил незнакомец. — Он остепенился… Словом, Пит теперь женатый человек.
И он начал хохотать.
Я тоже засмеялся. Ведь при известии о том, что кто-то женился, всегда принято смеяться. Предполагается, что сообщение о женитьбе старины Пита — кто бы он ни был — должно вызвать гомерический хохот. Итак, я продолжал преспокойно посмеиваться, надеясь, что этого смеха мне хватит до самого конца. Мне оставалось проехать всего лишь пятьдесят миль. Не так уж трудно растянуть смех на пятьдесят миль — конечно, если делать это с умом.
Однако мой друг не успокоился на этом.
— Мне не раз хотелось написать тебе, — сказал он, конфиденциально понижая голос. — Особенно после того, как я услыхал о твоей потере.
Я промолчал. Что бы это я мог потерять? Деньги? Если да, то сколько? И каким образом я потерял их? Интересно было бы узнать, полностью разорила меня эта потеря или только частично.
— Человек никогда не может полностью оправиться после такой потери, — мрачно изрек он.
Очевидно, мое разорение было окончательным. Но я ничего не сказал и, оставаясь под прикрытием, ждал, чтобы он выпустил свой заряд.
— Да. — продолжал незнакомец, — смерть всегда ужасна.
Смерть! Так речь шла о смерти. Я чуть не подпрыгнул от радости. Теперь все пойдет как по маслу. В таких случаях поддерживать разговор — проще простого. Нужно только сидеть спокойно и ждать, пока не выяснится, кто именно умер.
— Да, — прошептал я, — ужасна. Но бывает и так, что…
— Совершенно справедливо. Особенно в таком возрасте.
— Ты прав, в таком возрасте и после такой жизни.
— В здравом уме и твердой памяти до последней минуты, не так ли? — с горячим сочувствием спросил он.
— Да, — сказал я, ощутив под собой твердую почву. — Сохранив способность сидеть в постели и курить почти до самых последних дней.
— Как? — спросил он с изумлением. — Разве твоя бабушка…
Бабушка? Ах, вот оно что!
— Прости, пожалуйста, — сказал я, раздраженный собственной глупостью. — Когда я сказал курить, я имел в виду ее способность выносить табачный дым. Знаешь, она так любила, чтобы кто-нибудь потихоньку дымил возле нее, чтобы кто-нибудь сидел рядом и читал вслух. Только это и успокаивало ее.
Отвечая ему, я слышал, как поезд, с дребезжанием и грохотом промчавшись по стрелкам мимо семафоров, замедлил ход.
Мой друг поспешно выглянул из окна.
Лицо его было взволнованно.
— О господи! — сказал он. — Это узловая станция. Я проехал. Мне надо было сойти на предыдущей остановке… Эй, проводник! — крикнул он, высунувшись в коридор. — Сколько мы здесь стоим?
— Только две минуты, сэр, — отозвался проводник. — Поезд малость опоздал и теперь должен нагнать свое.
Мой друг стоял теперь возле своего чемодана и, вытащив связку ключей, лихорадочно тыкал то одним, то другим в замок, пытаясь открыть его.
— Придется дать телеграмму, что ли… Просто не знаю, как и быть, — бормотал он. — Черт бы побрал этот замок! Все мои деньги в чемодане.
Теперь я больше всего боялся, что он не успеет сойти и на этой станции.
— Возьми, — сказал я, вынимая из кармана несколько монет. — Перестань возиться с замком. Вот деньги.
— Спасибо! — сказал он, сгребая с моей ладони все, что там было (он так волновался, что захватил все). Только бы успеть!
Он выскочил из вагона. Я видел из окна, как он шел к залу ожидания. Мне показалось, что он не так уж торопится. Я стал ждать.
Проводники закричали:
— По вагонам! По вагонам!
Дали третий звонок, паровоз запыхтел, и через секунду поезд отошел от станции.
«Вот идиот! — подумал я. — Опоздал! А ведь его пятидесятидолларовый чемодан остался здесь».
Я все еще ждал, глядя в окно, и думал, кто же он такой, этот человек.
И вдруг я снова услышал голос проводника. По — видимому, он вел кого-то по коридору.
— Я осмотрел весь вагон, сэр, — говорил он.
— Я оставил его вот в том купе, где сидела моя жена. Он стоял на диване, у нее за спиной, — сердито произнес чей-то незнакомый голос, и хорошо одетый господин заглянул в мое купе.
Лицо его озарилось радостной улыбкой. Но эта улыбка относилась не ко мне. Она относилась к пятидесятидолларовому чемодану.
— Вот он! — крикнул господин и, схватив чемодан, унес его.
Совершенно убитый, я откинулся на спинку дивана.
Старинная компания! Женитьба Пита! Смерть моей бабушки! Боже великий! А мои деньги! Теперь все стало ясно. Тот, другой, тоже «поддерживал разговор», но он-то делал это с определенной целью.
Каким же я был ослом!
Ну нет, если когда-нибудь мне еще раз доведется завязать беседу со случайным дорожным спутником, я больше не стану проявлять столь исключительную находчивость.
— Я хотел бы сфотографироваться, — сказал я.
Фотограф как будто обрадовался. Это был понурого вида мужчина в сером костюме, с отсутствующим взглядом естествоиспытателя. Впрочем, нет необходимости описывать его внешность. Всякий знает, как выглядит фотограф.
— Посидите здесь и обождите, — сказал он.
Прошел час. Я прочел «Спутник женщины» за 1912 год, «Журнал для молодых девушек» за 1902 год и «Детский журнал» за 1888 год. Я начал понимать, что совершил недопустимый промах, нарушив уединение этого жреца науки и помешав ему в его ученых изысканиях — особенно при наличии такого лица, как мое.
По истечении часа фотограф открыл внутреннюю дверь.
— Войдите, — сурово сказал он.
Я вошел в ателье.
— Сядьте, — сказал фотограф.
Я сел. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь плотную хлопчатобумажную простыню, прикрывавшую матовое стекло крыши, падал на меня сверху.
Фотограф выкатил свой аппарат на середину комнаты, встал сзади и прильнул к нему лицом.
Пробыв в таком положении не больше секунды — ровно столько, сколько ему понадобилось, чтобы бросить на меня беглый взгляд, — он отошел от аппарата, взял палку с крючком на конце, отдернул простыню на потолке и распахнул оконные рамы; должно быть, этот человек безумно стосковался по свежему воздуху и свету.
Затем он снова подошел к аппарату и накинул на себя небольшое черное покрывало. На этот раз он стоял совершенно неподвижно. Я догадался, что он молится, и сидел не шевелясь.
Когда наконец фотограф подошел ко мне, вид у него был весьма мрачный. Он покачал головой.
— Лицо никуда не годится, — сказал он.
— Знаю, — спокойно ответил я, — я всю жизнь знал это.
Он вздохнул.
— Полагаю, что оно получится лучше, — сказал он, — если снять его в три четверти.
— Ну конечно! — вскричал я с восторгом, обрадованный гуманностью фотографа. — Ваше тоже получилось бы лучше в три четверти… Сколько есть лиц, которые кажутся нам грубыми, ограниченными, тупыми, — продолжал я, — но стоит повернуть их в три четверти, и выражение становится широким, открытым, почти беспредельно…
Но фотограф уже не слушал меня. Он подошел ко мне вплотную и, схватив мою голову обеими руками, начал поворачивать ее вправо. Я подумал, что он хочет поцеловать меня, и закрыл глаза.
Но я ошибся.
Он повернул мою голову до отказа и теперь стоял, глядя на меня в упор.
Потом снова вздохнул.
— Не нравится мне ваша голова, — сказал он.
После этого он подошел к аппарату и опять взглянул на меня.
— Приоткройте рот, — сказал он.