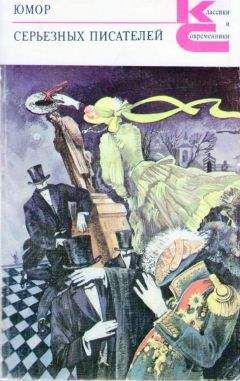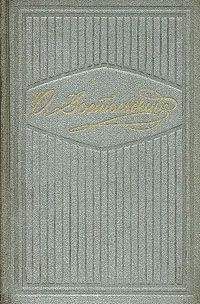— Не ваше дело! — почти грубо отрезал он, — а эту дрянь — ведь она мужичка — плетьми мало сечь! Пожалуйте мне мою записку!
Я отдал ему.
— Я с ними разделаюсь, — злобно ворчал он. — Я им дам «раздеру лицо», я им все косы истреплю! Раздавлю! — кричал он разъяренно. — Они за честь должны считать, что я с ними обращаюсь!.. — Он вытянулся на цыпочках и сердито загребал руками волосы с затылка на темя.
— Послушай, делай, как хочешь, — сказал я, — я в твои амуры не вмешиваюсь, но повторяю тебе: устраивай так, чтоб до меня жалоб не доходило и чтоб никакого «трепанья кос» не было. Если выйдет какой-нибудь скандал, я держать тебя не стану.
— Хорошо-с, я сделаю, — ядовито сказал он, — будут они довольны! Если бы она, эта Прохорова, не беспокоила вас, а со мной поговорила бы благородно и деликатно — я бы и ничего, отстал бы! А если она полезла к вам, да еще грозит мне, так нарочно, назло ей, буду ходить, буду, буду, буду! Вы, сударь, не извольте беспокоиться: жаловаться не станут. Я же ей, дряни эдакой: погоди она у меня! — ворчал он, уходя к себе и потрясая кулаками.
Донжуанство Валентина добром не кончилось — ни для него, ни для меня. Он потерпел поражение, а я лишился в нем честного и усердного, хотя и смешного слуги.
Через месяц после этих писем, когда, возвратясь вечером домой, я позвонил у дверей, Валентин, против обыкновения, медленно отворил мне дверь, не снял с меня пальто и тотчас скрылся в свою комнату. Я заглянул к нему. Он лежал на постели.
— Что с тобой: ты нездоров? — спросил я с испугом.
— Ничего-с, я полежу немного, отдохну… голова болит немножко.
Подле него был графин с водой, пахло уксусом.
— Ты скажи, что такое? — спрашивал я.
— Не беспокойтесь… извольте ложиться, я ушибся, отдохну, пройдет…
— Где ушибся, как? доктора надо позвать…
— Ради бога, не надо ничего-с: завтра отдохну…
Я, однако ж, не удовольствовался этим, спустился вниз и узнал на дворе, что с Валентином случилась история. Дворники рассказали мне, что он в сумерки пошел-таки «какетничать» с Лизой, здоровой мастерицей-прачкой, вызвал ее на второй двор. Хозяйка заметила это — и исполнила над ним свою угрозу, с помощью какого-то, должно быть, соперника Валентина, кажется, жениха Лизы, и если и не «разодрала ему всю лицо», однако значительно исцарапала. Соперник тоже напал на него, ругался, сбил с Валентина фуражку и старался схватить его за ворот. Валентин мужественно отражал нападение, не давался, кричал.
Дворники старались рознять их. Словом, вышел скандал.
Наконец их розняли. Валентин, измятый, с разорванным платьем, с расцарапанным лицом, удалился, при общем хохоте дворни, к себе в комнату.
Наутро он, по обыкновению, принес мне чай. Щеки и нос у него побелели почти совсем, на одной щеке и на лбу была царапина, впалые глаза смотрели тускло.
— Что такое было вчера? — спросил я.
— Пожалуйте мне расчет и паспорт! — тихо сказал он в ответ на мой вопрос.
— Вот тебе на! Да ты расскажи, что такое…
— Позвольте мне паспорт, — настойчиво повторил он. — Я сейчас извозчика приведу и уеду…
— Дворники говорили, что у тебя вышла история… расскажи!
— Нечего рассказывать-с: это мое дело. Только в этом разбойничьем доме я и дня не проживу… Еще убьют, чего доброго! Позвольте расчет и паспорт…
— Это решительно?
— Да-с, решительно, — уныло прибавил он.
— Но ведь я имею право задержать тебя три дня, пока приищу кого-нибудь на твое место: нельзя же мне оставаться одному!
— Я уж это сделал: когда вы почивали, я сходил к знакомому человеку: он сейчас придет и побудет, пока вы приищете другого. А меня, сделайте милость, отпустите сейчас же.
Он почти со слезами кончил эту просьбу. Я с глубоким сожалением согласился, и, когда пришел человек, я отдал Валентину паспорт и сверх жалованья прибавил награду. Он поцеловал меня в плечо и прослезился.
— Да ты подумай… может быть, обойдется, я спрашивать не стану! ты такой исправный и честный слуга!.. Мне жаль расставаться с тобой, право! — пробовал я уговорить его. — История эта забудется. Ты получил жестокий урок и, конечно, больше за женщинами ухаживать не станешь…
— Как можно! Стану-с. Только не с таким необразованным мужичьем, как здесь. Буду выбирать по себе, где благородно и деликатно…
— Подумай, — удерживал я, — все перемелется… Мне жаль тебя!
— Покорнейше благодарю, — нет, нет-с, я уйду! Он был так расстроен, что я больше не настаивал.
Он быстро собрал свои пожитки и уехал. Долго еще после него, по привычке, по вечерам, у меня иногда звучало в ушах:
И зри-мо ей в минуту ста-ло
Незри-мое с давни-шних пор!!
1888
К. М. СТАНЮКОВИЧ
СМОТР
Морской рассказ
(Из далекого прошлого)
За несколько лет до Крымской войны на севастопольском рейде, словно замлевшем в мертвом штиле, стояла щегольская эскадра парусного Черноморского флота.
Палящая жара начинала спадать. Августовский день догорал.
На полуюте флагманского трехдечного корабля «Султан Махмуд» под адмиральским флагом, повисшим на фор-брам-стеньге, маленький молодой сигнальщик Ткаченко не спускал подзорной трубы с Графской пристани, у которой дожидалась белая адмиральская гичка.
Адмирал приказал ей быть к семи часам, и время приближалось.
И как только на судах эскадры колокола пробили шесть склянок, в колоннаде пристани показался высокий, слегка сутуловатый, плотный адмирал Воротынцев, крепкий и необыкновенно моложавый для своих пятидесяти семи лет, которые он называл «средним возрастом».
Он глядел молодцом в сюртуке с эполетами, с «Владимиром» на шее и Георгиевским крестом в петлице. Из-под черного шейного платка белели маленькие брыжи сорочки — «лиселя», как называли черноморские моряки, носившие их, отступая от формы, даже и в николаевские времена.
Быстрой, легкой походкой, перескакивая через две ступеньки лестницы, с легкостью мичмана, адмирал спускался к гичке.
Офицеры, встречавшиеся с адмиралом, кланялись, снимая фуражки. Снимал фуражку, отдавая поклоны, и адмирал. Матросам, останавливающимся с фуражками в руках, говорил:
— Зря не торчи, матрос. Проходи!
Сигнальщик с флагманского корабля увидал адмирала, со всех ног шарахнулся к вахтенному лейтенанту Адрианову и несколько взволнованно и громко воскликнул:
— Адмирал, ваше благородие!
— Где?
— Идет к гичке, ваше благородие!
— Доложи, как отвалит.
— Есть, ваше благородие!..
И через минуту крикнул:
— Отваливают, ваше благородие!
— Оповести капитана и офицеров.
— Есть! — ответил сигнальщик и побежал с полуюта.
Щеголяя своим сипловатым баском, лейтенант крикнул:
— Фалрепные, караул и музыка наверх, адмирала встречать!
Старый боцман Кряква засвистал и закончил команду руладой артистического сквернословия.
Здоровые на подбор гребцы на гичке наваливались изо всех сил, откидываясь совсем назад, чтобы сильнее сделать гребки, и минут через десять гичка с разбега зашабашила и, удержанная крюком, остановилась как раз кормой к середине решетчатой доски трапа.
— По чарке, молодцы! — отрывисто бросил адмирал, выскакивая из шлюпки.
И, видимо, довольный своими гребцами, сдобрил свои слова кратким комплиментом в виде своеобычного морского приветствия.
— Ради стараться, ваше превосходительство! — ответил загребной от имени всех красных, вспотевших и тяжело дышавших гребцов.
Адмирал не поднялся, а взбежал с маху мимо фалрепных, по двое стоявших у фалрепов на поворотах коленчатого высокого парадного трапа, и у входа был встречен капитаном и вахтенным начальником. Офицеры стояли во фронте на шканцах. По другой стороне караул отдавал честь, держа ружья «на караул». Хор музыкантов играл любимый тогда во флоте венгерский марш в честь Кошута.
И, словно бы избегая этих парадных встреч, отменить которые было неудобно, адмирал, раскланиваясь, торопливо скрылся под полуют, в свое просторное адмиральское помещение.
В большой светлой каюте, служившей приемной и столовой, с проходившей посредине бизань-мачтой, с балконом вокруг кормы и убранной хорошо, но далеко без кричащей роскоши адмиральских кают на современных судах, адмирала встретил вестовой, носящий странную фамилию Суслика, пожилой, рябоватый и серьезный матрос, с медной серьгой в оттопыренном ухе, в матросской форменной рубахе и босой.
Жил он безотлучно вестовым у Воротынцева лет пятнадцать. Но денег у Суслика не было, и он не пользовался своим положением адмиральского любимца вестового и пьянствовал на берегу с матросами, а с «баковыми аристократами» не водил компании.