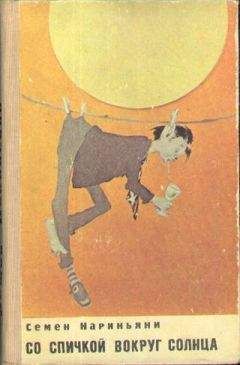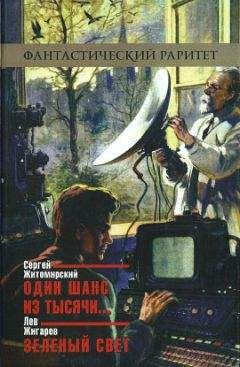Парторг прочел и сказал:
— Это действительно не тот. За своего я ручаюсь головой.
— А где же может учиться тот?
— Не знаю, может быть, у наших соседей, — сказал парторг и проводил меня в судомеханический техникум.
Но в судомеханическом тоже сказали «не тот», и я пошел в механический. В погоне за автором письма мне пришлось побывать почти во всех таганрогских техникумах и институтах, и почти в каждом из них оказалось по одному, а то и по два Жуковых. Здесь были Жуковы хорошие, чудные и обыкновенные. Были отличники, рядовые студенты, был даже Жуков с двумя «хвостами» — по математике и литературе. Но и у этого «хвостатого» были заступники.
— Он у нас слабого здоровья, — сказал завуч, — часто болеет. А вот в мае — мы с комсоргом ручаемся за это — он сдаст все. Это человек добросовестный.
Обойти все техникумы и институты оказалось не таким легким делом. Мне пришлось исходить город во всех направлениях и еще раз убедиться в том, как вырос Таганрог. Я ходил по улицам и переулкам — и все безрезультатно. Я злился, но это только для порядка, чтобы успокоить гудевшие от усталости ноги, а в душе я был чертовски рад. Рад за то, что всюду, где я был, и каждый, кто читал письмо Жукова, словно сговорившись, заявляли одно:
— Это не наш. За своего мы ручаемся.
Хорошо жить так, чтобы тебе верили и чтобы за тебя смело и прямо могли заступиться и твои товарищи и твои наставники. Мне было приятно сознавать, что среди нашей молодежи так ничтожно мало низких и бесчестных людей и что, даже напав на след одного прохвоста, я двое суток не мог отыскать его. Да был ли он в действительности? Мне уже начало казаться, что тот Жуков, которого я ищу, выдуман, и письмо его тоже выдуманное, и что таких людей вовсе нет среди нашей молодежи. Но увы! Такой все же оказался. Прочли письмо в горкоме комсомола и сказали:
— А не тот ли это парень, которому отказал в приеме Ленинский райком ВЛКСМ?
— За что отказал?
— За прыткость.
И мне объяснили: всю жизнь Жуков прожил в городе Шахты и не вступил в комсомол, а приехал в Таганрог — и тут же подал заявление. Такая поспешность показалась подозрительной и мне, и я отправился в школу механизаторов сельского хозяйства, где учился Леонид Жуков.
Я зашел в отдел кадров, поговорил с учащимися, директором школы, преподавателями, и передо мной ярко и отчетливо возник образ автора письма. Это был первый из десяти встреченных мною Жуковых, за которого не пожелал ручаться ни один человек. Правда, вначале за него заступился комсорг Лактионов. Этот комсорг по молодости лет полагал, что главным и решающим в облике учащегося являются его отметки. Хороши отметки, — значит, хорош и сам учащийся. Лактионов не анализировал поведение человека, не присматривался к тому, как тот относится к жизни, к товарищам. На все мои доводы он говорил:
— Жуков — отличник!
— А вы не можете познакомить меня с этим отличником? — спрашиваю я Лактионова, и мы отправляемся с ним в классы и мастерские школы.
Наконец в одной из комнат нам навстречу поднимается стройный, плечистый парень. У него красивое лицо и светлые, большие глаза.
— Жуков, — говорит комсорг, знакомя нас.
Он говорит это таким тоном, словно хочет спросить: «Ну, разве можно человека с такими ясными глазами подозревать в каких-то грязных поступках?»
Я смотрю в ясные глаза Жукова, и не знаю, как начать разговор. Да это и нелегко — сказать человеку, что он прохвост. Но разговор начать нужно.
— В нашу редакцию пришло письмо, — сказал я.
— Обо мне?
— Да. Вас обвиняют в нечестном отношении к — девушке, товарищам, к школе… — И я пересказал все, что было написано в письме, утаив только имя его автора.
— Клевета, — сказал Жуков. — Комсорг Лактионов может подтвердить…
— Я говорил уже.
— Природа наделяет людей по-разному, — сказал Жуков, — одних деньгами, других талантом. А мой капитал — честность, и я берегу его как зеницу ока.
Жуков минут пять говорил о том, как внимателен он к друзьям по школе, как горячо любит мать и как боготворит свою маленькую, милую приятельницу. «Вы, я думаю, разрешите мне, — попросил он, — не называть ее имени?»
Тут комсорг Лактионов встал и прошелся по комнате. Он искренне верил всем этим сантиментам. Как знать, не поверил ли бы им и я, не будь у меня в кармане разоблачительного письма. А я все еще прячу это письмо и перебиваю гладкую речь Жукова вопросом:
— Нам пишут, что вы ищете невесту «с хор. материальной базой».
— Ложь!
— …что вы заставляете девушек оплачивать часть своих расходов.
— Имя негодяя, который оболгал меня! — театрально крикнул Жуков. — Я при всех дам ему пощечину!
— Имя? Пожалуйста, — говорю я и протягиваю Жукову его собственное письмо.
Жуков посмотрел на первую страницу, узнал свой почерк и вспыхнул. Его ясные глаза сразу замутились, забегали, но он еще держал себя в руках, надеясь вывернуться.
— Вы зря придаете такое значение этому письму, — сказал он. — В переписке с родственниками я всегда пользуюсь шуткой.
— А как вы прикажете понимать вот эту шутку? — спросил я и прочел: — «Дорогая мамочка, не выбрасывайте корочек хлеба, а сушите и присылайте мне. Нам дают всего по 200 граммов».
— Как это «всего»? — удивился комсорг и взял письмо.
— Я хотел написать: по двести граммов к каждому блюду — и описался.
— А насчет корочек тоже описка? Только не пытайтесь лгать. Я уже был в вашей столовой.
Я действительно побывал в школьной столовой. Выбор блюд был там скромный, но кормили сытно.
— О корочках я написал для жалости, чтобы мать присылала мне побольше денег.
— Сколько вы получаете от нее?
— Пятнадцать рублей в месяц.
— Как, и от матери тоже? — спросил комсорг Лактионов, отрываясь от письма.
— А разве Жукову помогает еще кто-нибудь?
— Как же! Тетя Рая из города Шахты присылает ему ежемесячно по десять рублей. Вдобавок к этому он получает пятнадцать рублей стипендии.
— Да пятнадцать рублей от Зины, — добавил я. — Вы извините, что мне пришлось все-таки назвать имя вашей девушки. Итого 55 рублей в месяц. А вы просите корочек!..
Жуков молчит.
— «Старенькая мамочка», «бедненькая тетя Рая»… Эти ласковые слова преследовали у вас, оказывается, только одну цель — сорвать побольше?
Жуков понял, что попался, и пошел в открытую.
— Вы мне морали не читайте! — зашипел он. — У каждого в жизни своя цель, и каждый должен стараться только для себя.
Жуков говорил зло и почему-то шепотом, а я слушал и вспоминал молодого стяжателя Растиньяка. В пестрой веренице бальзаковских героев ярко выделяется эта колоритная фигура. Чтобы преуспеть в жизни, Растиньяк отказался от всех человеческих добродетелей. Подлость — вот что было главным и определяющим в его облике и поведении. Но насколько Растиньяк был уместен там, в парижском полусвете, среди вотренов, гобсеков, нюсингенов, настолько он выглядел дико и неправдоподобно здесь, рядом с колхозными трактористами, рядом с этим доверчивым и чистым в каждом своем помысле и поступке комсоргом. Но этой доверчивости пришел конец.
Лактионов только что дочитал письмо, и у него угрожающе сжались кулаки. Жуков решил не испытывать больше нашего терпения. Он встал и сказал:
— Надеюсь, что разговор останется между нами?
— Почему?
— Потому что вся эта история не имеет общественного интереса и касается только меня, моих родственников и моих знакомых. Это — во-первых, а во-вторых… — В этом месте Жуков сделал паузу и уже тихо, без всякой бравады, закончил: — Мне жалко маму.
— Можете быть уверены, что мы не напечатаем ни строчки, прежде чем не поговорим с вашей мамой.
И вот письмо Л. Жукова снова поехало в Москву, и я начал плутать уже по предместьям столицы в поисках поселка ВИМЭ. Наконец поселок найден, и мать получает письмо от сына. Мать читает, краснеет, плачет. Успокоившись, она рассказывает мне историю своего сына. Я слушаю ее рассказ и начинаю понимать, как в хорошей советской семье могло появиться на свет дешевое издание бальзаковского Растиньяка.
Появился на свет, конечно, не Растиньяк, а нормальный ребенок. Мать не чаяла души в этом ребенке и, хотя она сама была педагогом и умела воспитывать чужих детей, своего единственного растила эгоистом. Отказывала во всем себе, только было бы хорошо ему. И сыну стало в конце концов казаться, что весь мир создан только для него одного. И мать не разубеждала сына в этом.
Вот, собственно, и все. Как говорил Маяковский, так из сына вырос свин.
1948
Годовалая Верочка подняла с пола мамин окурок и сунула его в рот.
— Дуся, отними! — крикнула из дверей соседка.
Дуся бросилась к дочери, подкинула ее к потолку, поцеловала и снова опустила на грязный, давно не мытый пол.