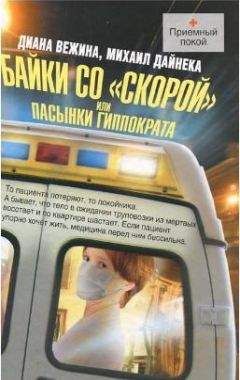«Рим» никого прицельно не приваживал и активно никого не отторгал. Здесь попадали в тему праздный косячок и крамола в самиздате, коньячок по вкусу уживался с пор-твешком по средствам, рубль «до востребования» оборачивался загулом до упора, а дежурные, до пошлости заезженные пристёбы перемежались головокружительными романтическими выходками.
«Рим» никому и ничему не удивлялся. Здесь неожиданно для самого себя можно было оставить на столе недопитый кофе и сорваться автостопом в Крым. Сорваться без гроша и без оглядки и только потому лишь, что — весна, и весна не просто наступила — хлынула, и рвануть всего-то-навсего затем, чтобы раз окунуться в море и потешить публику срочной телеграммой: «Повинтили зпт не ждите». И само собой, неважно, разумеется, что тогда чудаки на почте столь упорно не желали верить, что «повинтили» это не вообще, а фамилия такая — Повинтили, что в конце концов в натуре повинтили.
Где «Рим», а где Крым! да, в общем, где-то рядом. А ведь точно так же можно было дернуть вовсе на авось по просторам той, советской, Родины — так же вдруг, тем же автостопом, тоже без гроша в кармане податься, к примеру, на Байкал, и даже до него добраться, и забраться дальше, считая версты тысячами, а время поясами. И Михаил с Романом как-то раз действительно добрались, и забрались аж на самый краешек земли, и даже перебрались, а в качестве трофея привезли экзотического зэка, благо беглый уголовник на поверку оказался корешем прикольным и с легкостью вписывался в «римскую» тусовку, покамест как-то сам собой не рассосался.
Это было, когда-то это было. Всем когда-то было далеко до тридцати — а о сорока тогда никто не думал.
Когда-то это было… Время шло, иногда кто-то исчезал, а кто-то возвращался, кто-то грустно гремел в армию, а кто-то с прибаутками закладывался откосить от оной в сумасшедший дом, что также никого не удивляло, паче чаяния хватало прецедентов; кто-то, наконец, женился, а кто-то разводился — всё равно в итоге все пути вели сюда, на «Рим», как на сцену или как на площадь, и в результате было здесь всё то же, бывали здесь все те же.
И неважно, что социализм тогда был развитым, Союз — нерушимым, мышление — двойным, одеколон — «Тройным», рубль — деревянным, а занавес — железным; город Петербург тогда именовался Ленинградом, а до горбачевской перестройки оставалась еще целая «пятилетка похорон», а до перестрелки…
Неважно. «Рим» был залом ожидания. Но время шло, вечный «Рим» пустел, хоть были здесь все те же. А время шло, ожидание не наполнялось, а наскучивало, будто мучило. Время уходило, и всё тех же становилось меньше, чем других, даром что другие были в общем-то всё теми же. А потому однажды в чью-то голову, не иначе как просветленную портвейном (и опять же не принципиально в чью, хотя то была голова Фэна — и кто бы мог подумать!), пришла идея учредить, как учудить, словно учинить — «римские каникулы».
Тема поначалу показалось праздной, по жизни оказалась праздничной, и «каникулы» на «Риме» прижились.
Каждый год, каждую последнюю субботу мая, когда вокруг бронзового Бальмонта трепетно пенилась сирень, к полудню человек до сорока подтягивались к «Риму». Старые знакомые приходили встретиться, общнуться, оттянуться — и раз за разом загуливали так, что уронить парочку не в меру ретивых блюстителей порядка в говнотечку Карповку, сиречь Каспаровку, а заодно Корчновку, труда не составляло. А когда гульбище у «Рима» и в самом деле становилось чрезмерно вызывающим, тусовка обычно продолжалась на глухих задворках в Медицинском институте, на укромном пятачке поблизости от морга, благо жмурики, как правило, не возражали…
И неважно даже, что «Рим» со временем закрыли на ремонт. Всё равно сценарий оставался прежним, и по-прежнему рассеянная «римская» компания никому и ничему не удивлялась, хотя вчерашние дебютанточки давно обзавелись детьми, отцы-основатели нежданно повзрослели, словно поскучнели; романтические коллизии притупились или разрешились, и даже безнадежный Михаил ненароком добился своего, сойдясь-таки с Дианой, что тоже никого не удивило, естественно, кроме них самих.
Неважно. Железный занавес со скрипом приподняли, на подмостках объявились новые реалии, мифический социализм оказался недоразвитым, Союз помаленьку рушился, мышление изошло на плюрализм, а рубль — на опилки, а одеколон — на борьбу с алкоголизмом, что, однако же, тем более неважно, несущественно и непринципиально, паче чаяния всё, изложенное выше, к делу не относится.
Михаил хотел спать. Миха очень хотел спать. И немудрено: накануне состоялись проводы Романа. Провожали допоздна и допьяна — провожали, словно пропивали, пропивали, будто отпевали. Провожали Ромку неожиданно, как в былые времена, но теперь — на Запад, навсегда, а куда — опять-таки неважно, возвращаться он в любом случае не собирался.
Проводы случились на ходу, в скверике у «Рима». Роман никого особенно не зазывал, но народу подошло изрядно. День выдался прохладный, пасмурный, август перевалил за середину, лето уходило. И настроение было под стать смурной питерской погоде, поначалу получалось всё скомканно и мрачновато, толком почему-то не пилось, а Роман вообще был трезв, отстранен и странен.
Но только поначалу, а затем действие само собой наладилось, как обычно, развернулось, разошлось, разгулялось, словно распогодилось, и даже Ромка был почти как настоящий, стал похож на самого себя, лишь под самый занавес не удержался: «И куда я еду? Зачем я еду?» — но тут же смачно выпил посошок и решительно со всеми распрощался.
И куда я еду? зачем куда-то еду?.. Но всё бы ничего, Романа проводили, домой Михаил с Дианой возвратились на бровях и за полночь, но без приключений. Но дома ни с того ни с сего на Миху накатило, как заколотило, будто закрутило изнутри, будто бы его закоротило, словно он сегодня очень крепко недобрал — даром что Диана уверяла, что одних лишь посошков он уговорил по меньшей мере восемь, даром что по крайней мере три из них он таки запомнил.
Дело разрешилось незадолго до утра еще одной бутылкой. И теперь Миха очень хотел спать. Миха мучительно хотел спать. Теперь он из последних сил не просыпался, отчаянно цепляясь за изодранные сны, похожие на одеяла, и под каждым этим сном, как под одеялом, он тоже спал и видел те же рваные, растревоженные сны.
И каждый сон зудел, как комарье в знобком воздухе простуженной квартиры, и едва отлетал один, будто насосавшись, тут же наваливался другой, а за ним, перебивая, надсаживался третий — и опять звенел, зудел, гудел, надрывался, словно телефонный зуммер, и Михаил в конце концов не выдержал и во сне снял трубку.
— Ага, так тебя еще не посадили! — был немедля огорошен Миха. — Это Аристарх на проводе…
— Аристархушка, мать твою и ять, — Михаил от изумления чуть было не проснулся, — да чтоб ты за такие шутки геморроем изошел! Ты чего, — поперхнулся Миха, — ты с утра уже до перерыва в биографии допохмелялся? У тебя сегодня что — первое апреля?
— Девятнадцатое августа сегодня, — ничтоже сумняшеся поведал Аристарх, — это у тебя еще во лбу гуляет, а у нас в стране коммунистический переворот произошел. Горбачева, говорят, арестовали! Может, вечерком по такому поводу бунтовать пойдем? С Дрюлей я уже договорился.
— Аристарх, какой может быть переворот, если я не выспался?! И при чем тут Дрюля… чтоб ты удавился!!
— А я-то здесь при чем? — с искренностью удивился Аристарх. — Это же не я придумал, я серьезно, мне сосед Евсеич рассказал…
Михаил решил не просыпаться.
— Что-нибудь стряслось? — со скрипом подняла голову Диана.
— Нас с тобой пока не посадили? — на всякий случай поинтересовался Миха. — А то Аристарху, понимаешь, переворот примстился, ему сосед Евсеич рассказал — Горбачева, говорит, арестовали…
— Господи, нашел из-за чего будить! — Диана, застонав, рухнула в подушку. — Боже, башка-то как трещит… А это еще что за чертовщина?! — через силу выдавила Дина.
В квартиру зазвонили, резко и настойчиво. Но Михаил всё равно решил не просыпаться. Миха ни за что решил не просыпаться, однако дверь открыл — и тем не менее решил не просыпаться…
— Немая сцена: не ждали, называется! — от души расхохотался Ромка, глянув на ошарашенную Михину физиономию. — Извини, конечно, но нельзя ли выражение на фасаде попроще организовать?
— Перебьешься, всё равно тебя здесь нет, ты мираж и фикция, — вяло отмахнулся Миха, пропуская ухмыляющееся сновидение в квартиру. — Вчера ты улетел…
Роман освободился от громоздкой сумки и развел руками:
— А сегодня я вернулся, — усмехнулся он. — Чудак-человек, да чтобы я такую заварушку проворонил!
— Не понял, — протянул Миха, — так, значится, насчет переворота — правда? — Роман кивнул. — Стало быть, из-за этого переворота ты и возвратился? — Роман опять кивнул. — И как же тебя сразу из аэропорта в дурдом-то с исключительными почестями не определили, возвращенец?