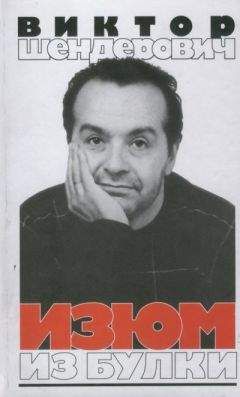«После антракта, — выждав паузу, продолжал эту историю Зиновий Ефимович, — я позволял себе смеяться невпопад…» О да! если короля играют придворные, что ж говорить о человеке, «придворным» у которого поработал Всеволод Мейерхольд?
Наутро шестнадцатилетний «король» первым делом побежал в дом к благодетелю. Им надо было о стольком поговорить!
Длинного разговора, однако, не получилось. Размеры вчерашнего благодеяния были известны корифею, и выпрямившись во весь свой прекрасный рост, он — во всех смыслах свысока — сказал только одно слово:
— Ну?
Воспроизводя полвека спустя это царственное «ну», Зиновий Ефимович Гердт становился вдруг на локоть выше и оказывался невероятно похожим на Мейерхольда…
…в своей жизни Зиновий Гердт, по его собственному признанию, услышал от билетерши кукольного театра:
— Когда играете вы, зрители сидят как живые…
Случались, впрочем, и комплименты потяжелее.
— Спасибо, спасибо! — тряс руку Зиновия Ефимовича какой-то военный. Дело было на премьере фильма «Фокусник». — Я почти не жалею, что зря потратил два часа!
А лучший комплимент в исполнении самого Гердта звучал так:
— Мне понравилось! А те, у кого еще хуже со вкусом, — вообще в восторге!
Еще из Зиновия Ефимовича:
— Видеть вас — одно удовольствие! Не видеть — другое…
В середине семидесятых резко подорожали такси. Советский народ не понял юмора, и московские таксисты, потеряв былую надменность, печально выстроились в рядок на стоянках, вместе со своими шашечками.
На эту картину и наткнулся, выйдя вечером из Дома кино, Зиновий Гердт. Таксисты наперебой начали зазывать его в свои машины, и услышали в ответ непреклонное:
— Я — в парк!
Как прилетают бумеранги-2
На настоятельную просьбу об интервью Гердт со вздохом ответил молодой журналистке:
— Ах, всем вам от меня только одно нужно!..
Пастернака Гердт знал наизусть.
Это надо понимать буквально: любую строчку из «синего тома» Зиновий Ефимович мог продолжить следующей. Русская поэзия была растворена в нем, кажется, целиком, и для лыка в строку от Гердта не требовалось никаких усилий…
Как-то после творческого вечера Давида Самойлова в Москве в маленькой, но грандиозной по составу компании поехали к Окуджаве, в тот самый, печально упомянутый в «арбатском» стихе, Безбожный переулок.
Самойлов был расстроен. Ему казалось, что вечер прошел неудачно: и актер N. читал его стихи плохо, и аудитория неуловимо изменилась с прошлых времен…
— Раньше, когда я читал стихи, — стоял гул!
Гердт, уже сидевший над стопочкой, печально развел руками:
— Гул затих…
Это было в день нашего знакомства.
Я приехал на дачу к Гердту, чтобы обсудить сценарий будущего фильма о нем (когда телевизионное начальство предложило мне это, я крикнул «да» прежде, чем начальство закончило фразу).
На третьем часу нашего разговора в кабинет вошла Татьяна Александровна и предложила переместиться за стол. Гердт подозрительно сильно обрадовался моему согласию поужинать вместе с ними и начал лично хлопотать на кухне, приговаривая что-то насчет собственного гостеприимства.
Через несколько минут передо мной, как на скатерти-самобранке, расстелилось еды-питья: лежал на тарелке сочный антрекот, исходила паром картошка, блестели свежевымытые перцы… А напротив сидел Зиновий Ефимович Гердт — перед стаканом воды и лежащим на блюдечке кусочком мацы.
Всё остальное, по случаю астмы, ему запретили врачи.
Сидевшая рядом с мужем Татьяна Александровна голодала из солидарности.
А я сидел перед антрекотом, и слюноотделение уже шло полным ходом. Я пискнул что-то жалкое в том смысле, что предполагал ужинать вместе с хозяевами…
— Ну что вы! — воскликнул Гердт. — Я обожаю, когда при мне вкусно едят! Сделайте одолжение!
И даже, кажется, приложил руки к груди, изображая мольбу.
Я был ужасно голоден и долго умолять меня не пришлось. Но когда я положил кусочек антрекота в рот и начал его жевать, Гердт негромко (но так, чтобы мне было слышно каждое слово) сказал, обращаясь к Татьяне Александровне:
— Вот молодежь пошла… Напротив него сидят два голодных ветерана войны — а он ест, и хоть бы что!
Видимо, в этот момент у меня что-то случилось с лицом, потому что Зиновий Ефимович немедленно «раскололся» и начал смеяться. И я понял, что сижу в гостях у молодого человека.
Когда летом 1995-го против «Кукол» было возбуждено уголовное дело, Зиновий Ефимович среагировал очень эмоционально.
— Этого не может быть! Они не посмеют этого сделать! — повторял он, имея в виду возможность моей «посадки».
— Почему? — спросил я, не видя никаких препятствий к тому, чтобы они посмели.
Гердт на секунду задумался и ответил:
— Но ведь тогда никто не подаст им руки!
Гердт. Расшифровка старой ленты
Эти истории рассказал мне Зиновий Ефимович Гердт. Разумеется, он рассказывал их не только мне — его творческие вечера наполовину состояли из таких устных новелл, рождавшихся в застольях; от рассказа к рассказу они оттачивались, становясь произведениями искусства… Однажды я догадался принести магнитофон.
Пленка, черт меня возьми, не сохранилась — сохранились листки с расшифровкой.
Теперь, спустя много лет, можно получить двойное удовольствие: от самих сюжетов — и неповторимой гердтовской интонации, которой они пропитаны.
Итак…
— Второстепенные детали отбрасывать нельзя ни в коем случае! Во-первых, создается ощущение правдивости. Помните, у Бабеля, в рассказе «Мой первый гонорар», когда проститутка теряет интерес к рассказу героя? — «Тогда я вложил астму в желтую грудь старика…»
Но вообще-то мои истории совершенно достоверны.
Это было в день шестидесятилетия Твардовского. Его только что выгнали из «Нового мира» — ну, и вы представляете, сколько народу пришло, чтобы поддержать. Федор Абрамов из Верколы приехал, Гавриил Троепольский на своем «москвичонке» — из Воронежа! Я уж не говорю о местных.
И вот у него на даче, в Красной Пахре, я стою, разговариваю, кажется, с Лакшиным — и вдруг вижу: вкатывается Рина со своим мужем Котэ. А я знаю, что они незнакомы с Твардовским! Я подбегаю к ней, говорю: Рина, откуда вы здесь? А она говорит: мы приехали к вам (моя дача рядом с дачей Твардовского), а нам сказали: вы тут. Вот мы и приперлись…
Ну, ее, конечно, узнали, отвели на кухню, усадили кормить — и я совершенно о ней забыл. Я же не обязан ее пасти! Отошел куда-то, разговариваю… Вдруг! Подходит Рина и начинает дергать меня за рукав: «Зяма! Я хочу выступить перед Александром Трифоновичем!». Я говорю: «Рина! Вы же не идиотка, это невозможно, это совершенно исключено! Вы посмотрите, что тут происходит, какие люди! Здесь цвет русской литературы, а вы со своими эстрадными штучками… В какое положение вы себя поставите и меня…». А она: «Ну объявите меня, я хочу выступить!».
И так как от желания выступить она уже потеряла представление, где кончается рукав и начинаюсь я, то попросту щиплет и царапает мне руку!
Тогда я решаю: ну ее, в самом деле, пусть делает что хочет! И говорю: «Александр Трифонович, сейчас перед вами хочет выступить Рина Зеленая!».
И только я это сказал, как она набросилась на меня: «Вы что, с ума сошли! Кретин! Идиот!» (И бьет меня по груди.) «В какое положение вы меня ставите! Здесь же цвет русской литературы!» И — Твардовскому: «Как вы его пускаете, этого недоумка, он же вам дом спалит!».
Долго орала на меня.
А потом, со вздохом: «Ну ладно… Раз уж объявил — придется выступить». И начала выступать. Я очень смеющимся Твардовского видел редко, но тут… Он катался по дивану, вытирал слезы…
Шантажистка кошмарная! Ради эстрадного эффекта заложить товарища…
Однажды — вот с этим лицом, которое обрыдло населению, — я вошел в купе, в котором уже ехала какая-то женщина. Она меня узнала — и начала, так сказать, рассказывать историю своей жизни. Желая быть светской и «на уровне», она все время употребляла вводные предложения — и наконец договорилась до нетленной фразы: «Мой муж, конечно, умер в шестьдесят втором году…».
Ну конечно, — у кого же муж не умер в шестьдесят втором году!
…про Жванецкого и Володина