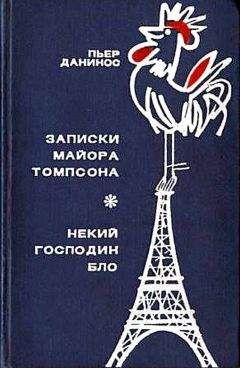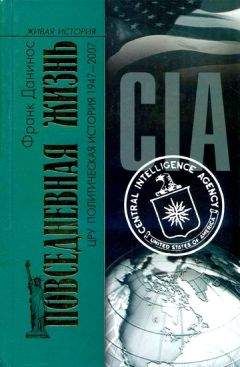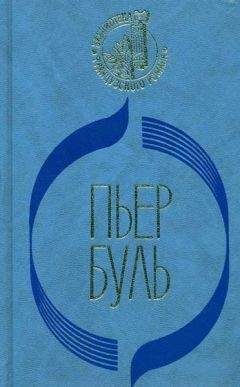Французы убеждены в том, что они никому не желают зла. Англичане высокомерны, американцы стремятся господствовать, немцы садисты, итальянцы неуловимы, русские непостижимы, швейцарцы — швейцарцы. И только французы удивительно милы. А их обижают.
Для Франции характерны две ситуации. Она ослепляет весь мир блеском своего величия (территориальные завоевания, расцвет искусства и литературы и т. д.). Таковы великие героические эпохи блистательной Франции.
Или же она страдает под игом захватчиков: тогда ее терзают, попирают, распинают на кресте. Таковы великие героические эпохи униженной Франции.
Блистательные эпохи льстят национальной гордости французов, импонируют их стремлению к величию. В каждом из них сидит Наполеон. В унижении Франции они черпают живительные силы для возрождения страны. В каждом из них сидит Жанна д'Арк.
Для французов недопустима сама мысль, что кто-то может (не впадая в заблуждение) представить их страну иначе, чем с оливковой ветвью в руке, иначе, чем трепетною добычей, отданной на растерзание воинственным племенам. Объективный историк должен был бы признать вполне оправданным такое умонастроение, поскольку менее чем за сто лет Франция трижды подвергалась опустошительным набегам тевтонской расы. Но для объективного суждения необходим более длительный срок, если этот же историк отбросил бы последние 80 лет — ничтожную крупицу в песочных часах истории и заглянул бы в анналы предшествующих веков, — он должен был бы признать, что для жителя испанского города, разграбленного когда-то армиями Наполеона, Франция вряд ли предстанет невинной жертвой. Но иностранцам следовало бы понять, что когда французские войска занимают Сарагосу или Пфальц, они действуют так отнюдь не ради собственного удовольствия[16].
Мало того, что французу угрожают внешние враги, с которыми ему приходится вести войны, мало того, что союзники предают его интересы и все на свете стараются украсть его изобретения (кажется, французы лишь для того и изобретают, чтобы потом жаловаться, что их обкрадывают), француза преследуют еще и его соотечественники: правительство, которое морочит ему голову, налоговое управление, которое заставляет его платить непомерно высокие налоги, патрон, который слишком дешево оплачивает его труд, торговцы, которые наживаются за его счет, соседи, которые сплетничают за его спиной, одним словом anybody…[17]
Состояние мнимой опасности, в котором он без конца пребывает, заставляет его постоянно «держаться настороже». Это особенно ярко проявляется, когда француз спрашивает француза, как тот поживает. За границей живут хорошо, живут плохо, но живут. Во Франции «держатся».
Выражение среднего француза «держусь как могу» характерно для человека, который живет как бы в состоянии перманентной осады.
Кто же осаждает нашего милого француза?
Короткое словечко из французского словаря, на которое любезно обратил мое внимание мой преданный друг и соавтор, открыло мне тайну: «они». Они — это все. Патрон для служащих, служащие для патрона, прислуга для хозяев, хозяева для прислуги, владельцы машин для пешеходов, пешеходы для владельцев машин, и у всех у них есть общие страшные враги — государство, налоговое управление, иностранцы.
* * *
Окруженный со всех сторон недругами, как Англия водой, вынужденный постоянно защищаться от своих преследователей, которые посягают на его прекрасную страну, на его кошелек, на его свободу, на его права, на его честь, на его жену, француз (его легко понять) все время держится начеку.
Он недоверчив.
Позволено ли мне будет сказать, что француз недоверчиво появляется на свет, растет недоверчивым, женится и делает карьеру, так и не избавившись от своего недоверия, и умирает еще более недоверчивым, поскольку за свою жизнь несколько раз оказывался жертвой жесточайших приступов собственного легковерия, подобно тому как самые застенчивые люди переживают иногда порывы ошеломляющей смелости? Думаю, что позволено[18].
Что же вызывает недоверие француза? Yes, of what exactly?[19]
Буквально все.
Стоит мсье Топену сесть за столик в ресторане, как он, живущий в стране первоклассной кухни, тут же начинает выражать свое недоверие ко всему, что ему подадут. Устрицы, пожалуйста.
— Но, — спросит он тут же у метрдотеля, — они действительно свежие? Вы ручаетесь?
Я ни разу не слышал, чтобы метрдотель кому-нибудь ответил: «Нет, поручиться за их свежесть я не могу!» Правда, иногда бывает, что (конфиденциально наклонившись к своему клиенту) он проговорит: «Они, конечно, хороши, но не для вас, мсье Топен (или мсье Делетан-Дельбе, или мсье Дюпон)». Впрочем, мсье Топен прекрасно знает, что, если устрицы указаны в карточке, они, безусловно, свежие, но он хочет, чтобы его лишний раз в этом заверили, а самое главное — он не может разрешить, чтобы его «водили за нос»[20].
Даже вода вызывает подозрение мсье Топена: он требует свежей воды, словно обычно в графины наливают теплую или тухлую воду. Он требует свежего хлеба и боится, как бы ему не подсунули разбавленного вина.
— Помероль у вас приличный? Стоит его заказывать? Надеюсь, это не помои какие-нибудь?
Good Lord[21]! Интересно, что бы он делал в такой стране, как Англия, где, садясь за стол, надо быть готовым к самым неприятным сюрпризам!
Вкусно и скромно пообедав, мсье Топен проверяет в уме правильность счета.
«Из принципа», — говорит он мне, и к тому же он совсем не хочет, чтобы его грабили средь бела дня. Не на того напали! Если он не находит ошибки, он чувствует себя разочарованным. Если он выискивает хоть малейшую — он впадает в ярость. После этого он покидает ресторан, больше чем когда-либо укрепившись в своей недоверчивости.
Недавно, когда мы вместе с мсье Топеном ехали на Аустерлицкий вокзал (его никак не минуешь), собираясь отправиться в маленький городок на юго-западе, он предупредил меня, что ему нужно заехать в аптеку купить необходимое лекарство.
— Too bad[22]! Вы нездоровы? — спросил я.
— Нет, пока здоров. Но я не слишком доверяю гасконской кухне.
— Но разве нельзя купить лекарство на месте?
— На эти городишки рассчитывать не приходится. Будет спокойнее, если я захвачу из Парижа.
К моему великому удивлению, такси проехало мимо многих, на вид самых обычных аптек, которые почему-то не внушали доверия мсье Топену. Вот тогда-то до меня и дошел смысл французских реклам, которые всегда приводили меня в полнейшее недоумение: «Продается во всех хороших аптеках». Вероятно, те, мимо которых проезжала наша машина, к числу таковых не принадлежали.
Наконец мы остановились у одной из «хороших аптек». Вернувшись в машину с небольшим пузырьком в руках, мсье Топен сказал мне несколько виновато:
— Не очень-то я доверяю всем этим лекарствам, которые, в сущности, совершенно бесполезны. Но моя жена верит в них. А раз веришь, помогает…
Когда мы уже подъезжали к вокзалу, я заметил, что мсье Топен время от времени нервно поглядывает на свои часы. Должно быть, он все-таки не доверял им, так как в конце концов спросил у шофера «точное время». Англичане или немцы спрашивают: What time is it? Wieviel Uhr ist es[23]? И им отвечают, сколько времени. Мсье Топена не устраивает просто время. Ему подавай «точное время». Время, сверенное с Обсерваторией, время по Гринвичу или по Монт-Паломару. В данном случае он, кажется, все-таки успокоился, так как часы на стоянке такси показывали то же время, что и его собственные. Но, приехав на вокзал, он еще раз сверился с часами на перроне, объяснив мне при этом, что часы на вокзальных башнях обычно ставят на три минуты вперед, чтобы поторопить отъезжающих. Итак, мсье Топен поставил свои часы по вокзальному времени, отбросив три минуты. Но из принципа прибавил одну минутку, потеряв на этом деле по крайней мере шестьдесят секунд.
Затем мы направились к своему поезду, сели в вагон и устроились около окна. До отправления мы решили немного погулять по перрону, но прежде мсье Топен занял три места, положив шляпу, зонтик и мой плащ.
— Но мы же едем вдвоем, — заметил я.
— Так оно вернее, люди удивительно бесцеремонны!
Время отправления, как мне казалось, не должно было беспокоить мсье Топена, поскольку он внимательно изучил расписание. Однако, заметив железнодорожника, он обратился к нему:
— В расписании ничего не изменилось? Оно точное? — И, повернувшись ко мне, бросил: — Не очень-то я доверяю этим расписаниям.
* * *
Пожалуй, легче всего обнаруживается знаменитая гидра «они» в вагоне поезда. Я это знал, и все-таки в тот день мне особенно повезло. По правде говоря, на сей раз, поддавшись общей дремоте, чудовище, казалось, оцепенело… но вдруг к концу этого холодного и сумрачного дня в вагоне начал мигать свет.