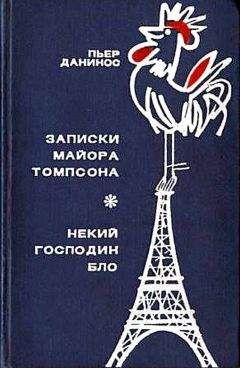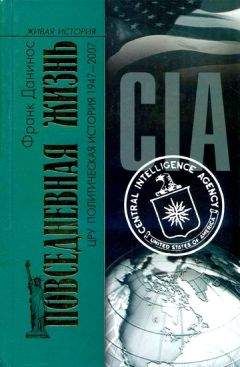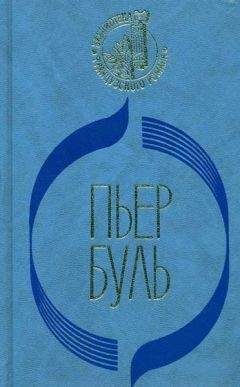Пожалуй, легче всего обнаруживается знаменитая гидра «они» в вагоне поезда. Я это знал, и все-таки в тот день мне особенно повезло. По правде говоря, на сей раз, поддавшись общей дремоте, чудовище, казалось, оцепенело… но вдруг к концу этого холодного и сумрачного дня в вагоне начал мигать свет.
— Все-таки могли бы они, — проворчала сухонькая старушка с грелкой в ногах, — проверять вагоны прежде, чем отправлять их!
Пятеро французов, сидевших в нашем купе, которые до сих пор настороженно и подозрительно молчали, уткнувшись в газеты, свои или взятые у соседа («Вы разрешите?.. Благодарю… благодарю…»), конечно, только и ждали сигнал тревоги или скорее боевой клич «они», чтобы броситься в атаку.
«Они», словно футбольный мяч, тут же приняла разодетая дама в вуалетке и с собачкой («Подумать только, они заставили меня купить билет этой крошечной болонке!») и перебросила дальше, мяч подхватил на лету крайний правый нападения, весьма самоуверенный господин, путешествующий под защитой орденской ленточки, солидной золотой цепочки и тройного подбородка, которые содрогались от раскатов его громового смеха.
— А чего тут думать! Им на это наплевать, мадам… Им на все и на всех наплевать.
— Кроме всех и всяких налогов, — подбавил (явно довольный) мсье Топен.
— Конечно!
— Лишь бы платили!
— На остальное им на…!
Свалка становилась всеобщей. Дух старого спортсмена заставил меня пожалеть о том, что я не могу принять в ней участия. Мне была отведена роль безмолвного судьи, и я продолжал считать очки.
— Будь у нас правительство…
— Есть-то оно есть, да толку от него мало.
— Нам нужно правительство, которое бы управляло.
— Ишь чего захотели!
— Нужен сильный человек…
— Я все бы это вымел к черту! Смахнул метлой.
— Ну, а пока что они сидят на своих местах!
— А что им! И будут сидеть!
— У них одна забота — набить себе карманы.
— Нашли теплое местечко!
— А поездки за государственный счет… Слышали об этой так называемой парламентской делегации в Черную Африку?.. Тьфу! А кто, спрашивается, за все это платит?
— Мы!
— Вы!
— Я!
— В том-то и дело! Они окончательно зарвались! Какой позор! И это в нашей прекрасной стране!
— Такой богатой!
— Которой цвести бы да цвести…
— Кончится тем, что они ее окончательно разорят.
— Они на это способны.
— Вот взять хотя бы этот поезд… Разве это не позор… Когда вспомнишь, что здесь путешествуют и иностранцы! Что они могут о нас подумать! (Все взоры устремляются ко мне, словно приносят извинения… «Пусть Англия простит нам!»)
— Я напишу компании.
— Пишите сколько душе угодно!.. Они и не подумают прочесть вашу жалобу.
В эту самую минуту вошел контролер и дама с собачкой набросилась на него.
— Это позор, вы понимаете, позор, позор! Верните мне стоимость билета.
— Если у вас имеются какие-то претензии, мадам, обращайтесь в Управление железных дорог, — ответил ей служащий.
— А вы-то здесь для чего?
— Я проверяю билеты, мадам… Ваш билет, пожалуйста!..
Господин с орденской ленточкой, которому не терпелось вмешаться, бросился в бой.
— Я попрошу вас быть повежливее с дамой!
— Я вполне вежлив, мсье, а, кроме того, я у вас еще не проверял билета. Ваш билет, пожалуйста!
— Я его предъявлять не стану!..
— Это мы еще посмотрим… Если вы думаете, что вам удастся провести меня…
— Ну, это уж слишком! Вы мне за это дорого заплатите, мой друг…[24] Но прежде (при этом он вытащил золоченый автоматический карандашик, висевший у него на цепочке) позвольте-ка взглянуть на ваш номер…
Господин поправил пенсне и буквально уткнулся носом в фуражку контролера, покусывая кончик карандаша:
— Три тысячи девятьсот восемьдесят семь… Итак, № 3987, будьте уверены, это вам даром не пройдет… А пока что, мой друг, держите-ка мой билет. Но даром вам это, мой друг, не пройдет, ох, не пройдет!
Контролер улыбнулся, с невозмутимым видом, щелкнув компостером, пробил билет.
— Хорошо смеется тот, кто смеется последним, — бросил господин с орденской ленточкой.
— А пока что, будьте любезны, ваши билеты!
Пассажиры нехотя, что-то бурча, подчинились. Как только за контролером закрылась дверь, дама с собачкой прошипела из-под вуалетки:
— Какая дерзость! До войны не было ничего подобного. И главное — они все таковы.
— Если еще не хуже!
— Одна шайка!..
Немного погодя, выйдя в коридор подышать свежим воздухом, я услышал, как контролер говорил своему товарищу, принимавшему у него смену:
— Не знаю, что с ними сегодня, компостером их не возьмешь… Не очень-то доверяйся им!
* * *
Контролеры не доверяют пассажирам. Пассажиры не доверяют контролерам. Кто же в этом французском поезде, в этом поезде недоверия, самый недоверчивый?
Я продолжал об этом думать, даже когда мы приехали в пункт нашего следования.
Нужно ли говорить, что и в гостинице мсье Топен выказывал ко всему недоверие, что он попробовал, мягкая ли кровать, пощупал простыни и даже приложил ухо к шкафу. Вряд ли такая недоверчивость свойственна только ему. Миллионы других французов также не доверяют хозяевам гостиниц, счетам в ресторанах, устрицам, женщинам, которые обводят их вокруг пальца, военным, которые приказывают им идти вперед, политиканам, которые тянут их назад, антимилитаристам, которые готовы продать Францию кому угодно, учителям, которые забивают всякой ерундой головы их детей, своим врагам и своим друзьям и в глубине души — даже самим себе.
Глава III
Царство раздробленности
В учебниках географии и в различных справочниках говорится: «Великобритания насчитывает 49 миллионов жителей», или «Общее число населения США составляет 160 миллионов».
О Франции правильнее было бы сказать: «Страна делится на 43 миллиона французов».
Франция — единственная страна в мире, где, прибавляя к десяти гражданам десять других, вы производите не сложение, а деление на 20. Конечно, не я, майор британских вооруженных сил, а только Фрейд был бы в состоянии объяснить, почему эти цареубийцы, вечно раздираемые противоречиями, грезят о Букингэмском дворце и национальном единстве — этой недостижимой химере, которая из месяца в месяц представляется измученным распрями французам как некая панацея, лишь одна способная залечить их раны. Но нужна по меньшей мере война, чтобы французы обратились наконец к этому средству, именуемому тогда «священным единением». Тогда вся Франция представляет собой полтораста дивизий, на что, честно говоря, нам сетовать не приходится, поскольку, не имея возможности вступить в бой друг с другом, эти дивизии сражаются против нашего общего врага, что позволяет нам, следуя национальным традициям, еще немного wait (повременить) и получше see (осмотреться)…
Но не успеет воцариться мир, как Франция тут же бросается в новые битвы. Под сенью фронтонов, провозглашающих Равенство и Братство, французы на свободе предаются одному из своих самых излюбленных видов спорта, пожалуй столь же популярному, как и велосипедные гонки: классовой борьбе. Я не стану отбивать хлеб у социологов — пусть они изучают, как развивался этот спорт на протяжении веков, как менялись его правила и направления. Но одно все же меня поражает.
Американский пешеход при виде миллиардера в роскошном «кадиллаке» втайне мечтает о том дне, когда он тоже сможет сесть за руль собственного «кадиллака».
Французский пешеход при виде миллиардера в роскошном «кадиллаке» втайне мечтает о том дне, когда он сможет выбросить миллиардера из автомобиля и тот будет ходить пешком, «как все»[25][26].
Я не берусь перечислять все группировки, на которые подразделяются французы. Замечу только: если в одно прекрасное утро какой-нибудь француз просыпается в Пор-де-Бук убежденным нюдистом, можно не сомневаться, что где-то в Мало-ле-Бен другой француз встанет в это утро антинюдистом. Казалось, можно было бы ограничиться подобным антагонизмом. Не тут-то было. Нюдист создает общество, которое избирает почетного президента (его самого) и вице-президента. Вице-президент, поссорившись с президентом, образует Комитет неонюдистов, более левого направления. Со своей стороны антинюдист, возглавив почетное жюри… и т. д…
Этот процесс типичен в одинаковой мере как для политики, так и для лыжного спорта. Недавно в моду вошли короткие лыжи. Незамедлительно вся стоящая на лыжах Франция разделилась на сторонников и противников коротких лыж. В каждом французе дремлет это «против», которое мгновенно пробуждается, стоит только появиться какому-нибудь «за». Именно этим объясняется уму непостижимое обилие французских политических группировок.