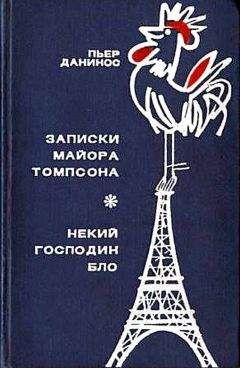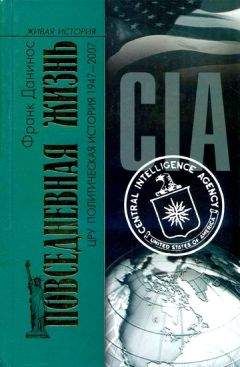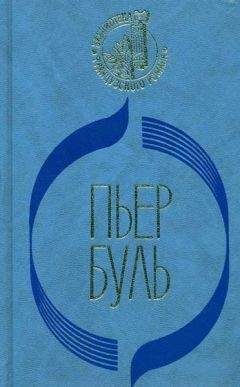И разве под силу нормально устроенному англичанину, то ость способному только отличить лейбориста от консерватора, уловить те нюансы, которые отделяют «левых республиканцев» от «республиканцев левого направления» или депутата «Республиканского союза социального действия» и депутата «Республиканского и социального действия». Действительно, я этого не могу[27].
* * *
Не в силах рассмотреть все сто тысяч принципов, по которым делятся французы (впрочем, известно, что французы испытывают подлинный ужас перед ненужными сложностями), я остановлюсь лишь на том, по которому вся современная Франция делится на два лагеря: чиновников, считающих, что их ни во что не ставят и обращаются с ними свысока, и нечиновников, убежденных, что все зло исходит именно от чиновников.
Таким образом, ежедневно, кроме воскресенья — дня перемирия (впрочем, сами французы признают, что они в этот день безумно скучают), сорок два миллиона граждан Франции ополчаются против сорок третьего миллиона.
На первый взгляд казалось бы, что численное превосходство одной из сторон должно было бы определить ее победу. Но во Франции никогда нельзя судить о вещах по первому впечатлению. Вы то и дело открываете для себя новые тайны и в конце концов начинаете постигать, почему эти люди так непостижимы.
Француз, проникший в комиссариат полиции, в кассу социального страхования или в мэрию, напоминает мне лучника, готового отправиться на Столетнюю войну. Вооружившись дурным настроением и изрядной долей сарказма, он наперед уверен в том, что ему ничего не добиться, что его будут гонять из комнаты № 223, находящейся где-то на антресолях, к окошечку Б на четвертом этаже, с четвертого этажа в комиссариат полиции, из комиссариата в префектуру до тех пор, пока он не выяснит, что по новому положению данное удостоверение ему не нужно, что теперь требуется другое, в сущности ничем не отличающееся от прежнего, но для получения которого нужно выполнить еще новые формальности.
Идущий на приступ француз, которого на бюрократическом языке, словно затем, чтобы заранее испортить настроение, называют «просителем», обыкновенно наталкивается на чиновника, облаченного в вылинявший халат или потертый костюм, который он «донашивает» на службе.
О стену его равнодушия («И не таких видали… Вы у меня не один!.. Не я устанавливаю правила…») одна за другой затупляются стрелы даже самых воинственных нападающих, а именно — тех, у кого больше всего орденских ленточек («Вы еще за это поплатитесь, мой друг… У меня рука в вашем министерстве!»). При этом господин, обладающий высокими связями, вытаскивает из своего бумажника какую-то книжечку, перечеркнутую красной полосой, и, хотя никто не успевает ее разглядеть, она производит явное впечатление на окружающих. И кажется, что рука, на которую только что ссылался этот господин, протянувшись над головой чиновника, пробивает преграды, пересекает Сену и оказывается прямо в кабинете министра, который тут же увольняет виновного.
Но, укрывшись за своим окошечком, чиновник сохраняет невозмутимое спокойствие. У него по сравнению с осаждающим то же преимущество, что у людей, с комфортом устроившихся на террасе кафе, перед проходящими мимо. К тому же у него еще и территориальное превосходство. Он тем более чувствует себя как дома, что под рукой у него всегда маленькая коробочка или корзиночка (чаще всего у женщин), в которых они держат кое-какие личные вещи: ножницы, вязанье, домашнее печенье, леденцы, иногда даже мелкую марку, которой недоставало и которую они по рассеянности искали там, где ей полагалось бы быть.
Возможно, происходит это потому, что мои письма часто адресованы в дальние страны? Но во всяком случае, они весят столько, что обычно оплата почтовыми марками не составляет круглой суммы. Барышня подсчитывает, что я должен заплатить 93 франка, 112 или 187 франков; она довольно легко находит первую марку стоимостью 50 франков, и даже вторую — 30 франков, но иногда ей приходится долго искать недостающую мелкую марку в папке своей сослуживицы, если только она не обнаруживает ее в своей знаменитой коробочке. (Я заметил, что почтовые барышни отдают предпочтение старым коробкам из-под сигар. Good heavens!..[28] Какой дьявольски сложный путь приходится пройти коробочке из-под гаванских сигар, прежде чем она, окончив свою карьеру, появится в качестве рабочей шкатулки на столе почтовой служащей.
* * *
Иногда сражающиеся стороны отделены друг от друга стеклянной перегородкой, где на определенной высоте пробито штук десять маленьких отверстий. Сначала я думал, что эти отверстия предназначены для того, чтобы пропускать звуковые волны. Отнюдь нет. Они расположены так, что рот служащего и брызжущий слюной рот просителя никогда не оказываются на одном и том же уровне. Поэтому противникам приходится кричать еще громче. Бывает и так, что небольшое отверстие проделывается в самом низу стеклянной стены, на уровне головы служащего, и тогда нападающему приходится сгибаться в три погибели, отчего он еще острее чувствует свое унижение.
У этих отверстий, щелей, окошечек француз проводит значительную часть своей жизни, доказывая, что он действительно существует, что он проживает именно там, где он проживает, и что дети его, поскольку они не скончались, живы.
Казалось, можно было бы считать, что если француз не умер, значит, он жив. Какое заблуждение! Для чиновника он вовсе не жив. Тому подавай прежде всего свидетельство о рождении, вид на жительство, иногда оба документа вместе. (С некоторых пор удостоверение, что ты еще жив, заменено свидетельством, что ты еще не умер. Ничего не скажешь, французы любят играть словами, даже теми, которыми играть не стоит.)
Доказав черным по белому — простите за столь мрачную формулировку, — что он еще жив, француз, если он собирается в Италию и хочет получить паспорт, должен представить еще и другие документы. Может показаться странным, но путь француза в Италию начинается у консьержки, которая имеет право выдать ему сразу — или же значительно позже, в зависимости от ее настроения — столь необходимую «справку, удостоверяющую его местожительство». По-видимому, совершеннолетний француз не может сам удостоверить, что он проживает там, где он живет. Чтобы засвидетельствовать это, необходима печать консьержки, этого соглядатая уголовной полиции. Затем ему представляется полная возможность произвести эксгумацию старых воспоминаний, разыскивая воинский билет, который почему-то обычно оказывается совсем не на том месте, куда он положил его десять лет назад.
Недавно я встретил мсье Топена, который направлялся в комиссариат полиции. Ему надо было получить новое удостоверение личности. Наивный наблюдатель мог бы подумать, что мсье Топен, который целых 35 лет известен и пользуется большим уважением в своем квартале, не нуждается в том, чтобы кто-то другой подтверждал, что он действительно мсье Топен. Заблуждение. Для того чтобы удостоверить, что он — это действительно он, мсье Топен должен обзавестись двумя свидетелями. Логично было бы предположить, что эти свидетели должны быть с ним давно знакомы. Новое заблуждение. Свидетели, которые обязаны заявить, что они его знают, на самом деле совсем его не знают, но зато их самих знает комиссар полиции. Обычно это хозяин бистро и бакалейщик, которые сверх своей ежедневной торговли не против подработать, выступая в качестве свидетелей[29].
Вот вам и простодушная милая страна, где улыбка может смягчить сердце жандарма, где в любом законе есть слабое место, позволяющее обойти его, где строгое соблюдение правил считается чуть ли не самым страшным наказанием: формальности для нее — прежде всего. Я это понял в ту самую минуту, когда, вступив на французскую землю в Кале, услышал, как один развязный таможенник говорил с сочным овернским акцентом какому-то пассажиру, дважды нарушившему таможенные правила: «Если это еще раз повторится, я вынужден буду действовать по всей строгости закона».
Глава IV
Страна shake-hand'a
Для французов, как и для многих других народов, Англия — страна shake-hand'a[30].
Мсье Топен, который так и норовит усадить меня на сквозняке (хотя я тысячу раз просил его не делать этого), считает также своим долгом с удвоенной силой пожимать мне руку только потому, что я англичанин, человек из страны shake-hand'a.
На самом же деле, хотя крепкое английское рукопожатие — столь излюбленная деталь французских полицейских романов, действие которых для большей убедительности обычно переносится в Англию, страной рукопожатий следует считать именно Францию.
С shake-hand'ом произошло приблизительно то же, что и с правилами поведения за столом: англичане научили мир, как корректно вести себя за столом. Но сидят за столом именно французы. Англосаксы нашли самое выразительное название для процедуры рукопожатия. Но пожимают руки французы. Этот вид довольно грубого контакта между людьми у нас сведен к минимуму. Человек, которому вы однажды пожали руку, может быть уверен, что такое не повторится до конца его дней.