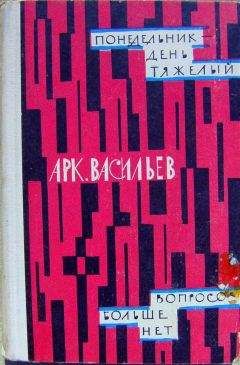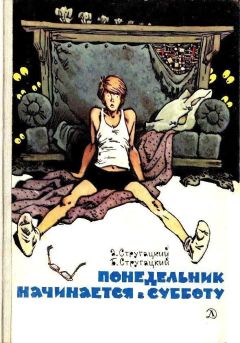— Опыт придет.
— А если посмотреть еще — не справится. Молода!
— Я поговорю с ней. Хотя, конечно, молода.
— А все-таки она женщина. А у нас в Краюхе женщин на руководящей работе не так-то уж много. Мне об этом сам Сергей Павлович говорил.
— Да, это верно. Сергей Павлович прав. Женщин надо…
Более солидный еще раз посмотрел на часы и решительно встал.
— Ну, мы этого вопроса сегодня не решим. Ты куда?
— Домой.
— Поехали?
— С удовольствием.
Как только машина тронулась, менее солидный вспомнил про Соловьеву, но, не желая посвящать шофера в государственные дела, сказал, не называя фамилии:
— Я думаю, она справится.
Солидный, помолчав, ответил:
— Подумаем. Посоветуемся.
Анна Тимофеевна в это время сорвала еще один листок, снова сделала «чок» и улыбнулась.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,
повествующая о том, что такое персона брата и в чем ее истинный смысл
Если бы менее солидный товарищ вместо: «Я думаю, она справится» — употребил более осторожную формулировку: «Я думаю — справится», важный государственный вопрос, который «вентилировался» в краюхинских верхах, был бы законспирирован полностью. Но личное местоимение третьего лица единственного числа было произнесено, и водителю все стало ясно.
Сначала, понятно, завезли домой солидного. Он, вылезая из машины, сказал шоферу:
— Подвези, Федя, товарища до хаты.
И пообещал еще раз:
— Подумаем, посоветуемся.
Отъехав, Федя весело сказал менее солидному:
— Конечно, справится!
— Вы о ком?
— Об Анне Тимофеевне.
— С чего вы взяли?
— Все говорят: от нас, от шоферов, ничего не скроешь. Мы все знаем. А вы правду сказали — она справится. Толковая женщина, честная. А на этом месте это ох как надо.
Менее солидного слегка передернуло. Затем пришло успокоение: «А может, и лучше. Глас народа — глас божий!»
А Федя продолжал характеристику Анны Тимофеевны:
— Умная. Обходительная. Вот увидите, как она дела потянет. Она из этого болота чертей повытаскивает…
Менее солидный, поняв, что разговор может принять острый характер, уклончиво ответил:
— Было бы болото, а черти найдутся. Спасибо, приехали.
Дожевав кое-как, Каблуков нахлобучил соломенную шляпу, забрал счет, с душевным надрывом произнес: «Сам не сделаешь — никто не сделает!» — и прямо из дома пошел в приходную кассу отделения коммунального банка.
Войдя в маленький, набитый плательщиками зал, он сразу оценил всю нелепость затеи — самому платить за свет и воду.
Увидев, что в очереди женщины и дети, он, подняв над головой портфель, начал решительно пробираться к окошечку контролера, деловито повторяя:
— Одну минуточку. Извините, одну минуточку. Мне только справочку…
Он, наверное, добрался бы до окошечка, если бы не школьница с красным бантом в косе:
— Яков Михайлович, за справками идите через служебный ход, со двора.
Каблуков поспешно ретировался к выходу, В девочке с красным бантом он узнал дочь председателя горисполкома.
Уйти просто так, не заглянув к контролеру, означало выдать себя с головой. Девочка, судя подвиду, была в восьмом или в девятом классе, и она, конечно, могла при случае рассказать отцу о встрече.
Минут через пять до ожидающих донесся сердитый голос контролера и гуденье Каблукова.
— Встаньте в очередь, товарищ Каблуков. Выходит, по-вашему, там пешки стоят. Не приму. А про жену вы лучше не говорите. Больна! Я ее утром на базаре видела, вместе лук покупали.
Каблуков гудел:
— Да тише вы! Тише.
— А что? — удивилась контролер. — Почему тише! Вам неудобно, а не мне.
В довершение Каблуков увидел, как в окошечко просунула голову дочка председателя горисполкома и попросила:
— Уж примите у него, Клавдия Петровна! У него жена, наверно, скоропостижно заболела.
Чертыхаясь, проклиная жену, пени, Клавдию Петровну и свою юную защитницу, Яков Михайлович выскочил на улицу с квитанцией в руках. На ней под копирку, хотя и слепо, но все-таки заметно, к сумме счета было приплюсовано: «Пени — 7 копеек».
Неподалеку от приходной кассы, в тени бульвара, Каблукова поджидала еще одна неприятность — навстречу двигался священник. Убежденный атеист, Яков Михайлович попон не любил н встречи с представителями религиозного культа считал за дурное предзнаменование. И на этот раз он на всякий случай решил ухватиться за пуговицу. Как назло, он был в расшитой украинской рубашке без пуговиц. Сообразив, что шнурочки спасительный талисман не заменят, Каблуков подержался за пуговицу от брюк. Поп, усмехнувшись, прошел мимо.
Скверно начавшийся для Каблукова день с неумолимой жестокостью катился в избранном направлении. Не успел поп скрыться в зелени аллеи, как Якову Михайловичу повстречался директор завода фруктовых вод и безалкогольных напитков Елизар Иванович Сидоров. Про Елизара Ивановича говорили, что он пьет все, кроме продукции своего завода. Его огромный, свекольного цвета нос, напоминавший кусок макета сильно пересеченной местности, здешние остряки прозвали «аттестатом крепости». Но что бы там ни говорили, Елизар Иванович обладал огромным количеством друзей и узнавал о всех городских новостях за день до того, как они произошли.
Сидоров издали крикнул:
— Здорово, банки-склянки! Слышал про братца? Опять по радио передавали: «С советской стороны на обеде присутствовал». Вот это жизнь! А у вас перемены, говорят! Ну что ж, давно бы пора. Сколько же можно. Бывай здоров. Да, кстати, нельзя ли у тебя градуированными стаканчиками разжиться? Немного — штук полсотни…
Недолгий этот разговор уязвил Якова Михайловича в самое больное место. Каждое напоминание о брате, занимавшем в столице высокий пост, Каблуков воспринимал как личную обиду. Это усугублялось тем, что возмущаться вслух он не смел и переживал уколы самолюбия молча.
Брата Каблуков ненавидел. Разногласия между Монтекки и Капулетти по сравнению с мыслями о мести, которые иногда охватывали заведующего сектором стеклянной посуды и тары, показались бы отношениями между ангелами.
Разъяренная фантазия Каблукова выдумывала для Петра невероятные беды. Самым приемлемым бальзамом для воспаленной души Каблукова явилось бы отстранение брата от высокого поста. Сколько радости принесло бы Якову Михайловичу возвращение брата в Краюху в первобытном звании — Петр Каблуков и ничего больше. Яков Михайлович не пожалел бы истратить на угощение целую сотню, лично сбегал бы за пивом в вокзальный буфет.
Но брат все шел и шел в гору. Каблуков перестал читать в газетах сообщения о приемах, — даже те отчеты, в которых Петр не упоминался, а просто говорилось «и другие официальные лица», вызывали у Якова Михайловича удушье.
Два года назад Петр Каблуков неожиданно заглянул в родной город. О его приезде тотчас же узнали во всех организациях, и как он ни отбивался, его всю неделю избирали в президиумы разных собраний, возили в пригородный колхоз. Марья Антоновна Королькова, называя его по старой комсомольской дружбе Петей, уговорила поехать в пионерский лагерь. Впрочем, Петра Каблукова долго уговаривать не пришлось. Он крикнул жену и дочь— смешливую, загорелую Анюту:
— А ну, поехали с Машей!
Он навестил старых друзей, катался на лодке, пел пески смотрел футбольный матч, и когда центр нападения краюхинской команды Андрей Шариков вогнал в ворота против ника первый мяч и вразвалочку, спокойненько пошел на свое место, — Петр Каблуков не выдержал и, подбросив шляпу, рявкнул:
— Молодец Шариков! Люблю!
Все эти дни для Якова Каблукова были наполнены нестерпимыми муками. Он плохо ел, плохо спал, осунулся, под глазами появились синие мешки. Самую страшную обиду он получил в последний день, на общегородском собрании интеллигенции, куда пригласили Петра и, разумеется, выбрали в президиум.
Когда молоденькая учительница Таня Гвоздева, читавшая список президиума, назвала Петра Каблукова, в зале дружно зааплодировали.
А затем Таня назвала Якова Каблукова — из уважения к брату, — и его втиснули в президиум. Сначала в зале не поняли, о каком же втором Каблукове идет речь, и кто-то громко поправил Таню:
— Не Яков, а Петр!
Но Таню сбить не удалось. Читать список президиума являлось ее второй специальностью, и она хорошо поставленным голосом бодро отпарировала:
— Я сказала вполне ясно: Каблуков Яков Михайлович!
В зале засмеялись, где-то в заднем ряду тихонько захлопали и, словно устыдившись неуместных аплодисментов, туг же притихли.
В президиуме братья сидели рядом, как живая иллюстрация оптимизма и смертельной усталости и тоски.
Петр, несмотря на свои пятьдесят лет и седину, с озорными, веселыми глазами, доброжелательно улыбался залу.