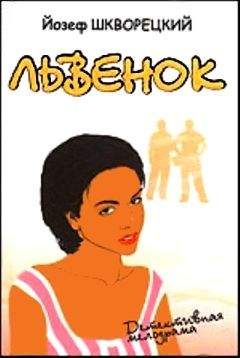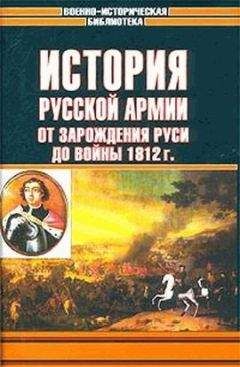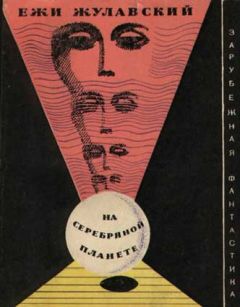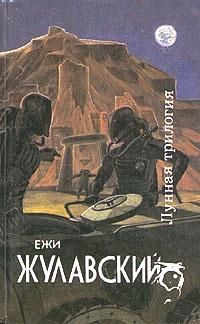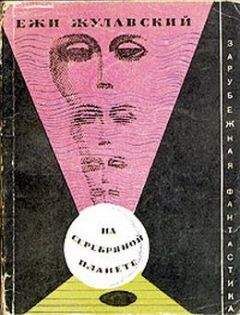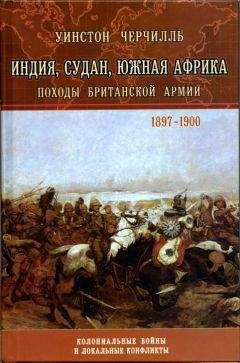— Слушай, не зли меня! — Газельи глаза сузились до размера тощих чечевичных зерен. — И что же это, интересно, за сенсации мы тут издаем?
Я опустил голову, и в глаза мне бросился девиз моего редакторского герба. Non edemus, ergo sumus,[30] Дашенька. Но такой картезианский ответ сейчас не годился.
— Да взять хоть Алоиса… — сказал я.
Алоис был неподражаемым поэтичным стилистом, который когда-то писал вызывающие социальные повести из жизни пражских баров, но потом, подобно многим, избрал для себя поприще славной чешской истории. Разумеется, Даша немедленно завелась:
— Пошел ты знаешь куда с этим засранцем! Они все время хотели современности, вот они ее и получат!
— Получат. И скажут, что это художественно незрело.
Даша помрачнела.
— Значит, ты хочешь ее утопить?
Впервые на милом личике Даши я прочитал для себя вероятность враждебности с ее стороны. И эта возможная враждебность показалась мне опаснее шефа, хотя ничем мне не грозила. Пока она еще не проявилась, но и эфемерной я бы ее уже не назвал, в отличие от враждебности шефа, который полностью усвоил хорошую манеру нашего общества, где суровая критика сопровождается ласковым похлопыванием по спине, причем и то, и другое исходит из одного источника.
Я тут же запротестовал:
— Да нет, что ты! Но ты прекрасно знаешь их требования к прозе. Нам придется уговорить ее вычеркнуть с полсотни всяческих задниц…
— Но ты будешь «за»?
— Если она вычеркнет эти свои…
В газельих глазах появилась брезгливость. Но — не сильная.
— Хочешь алиби для себя, да? Из-за Эмилка?
Я пожал плечами.
— Я и правда не уверен, что эта рукопись стоит риска.
— Да что же тогда, по-твоему, стоит риска? Толстой, что ли?! — взвизгнула она так, что ее наверняка услышали даже в корректорской. — Знаешь, если ждать, пока из нашего чешского дерьма проклюнется Толстой, то можно и не дождаться! К тому же они его все равно зарубят!
— Даша, прекрати злиться. Я буду «за», но с оговорками. Этого хватит. И вообще — почему бы нам не продемонстрировать объективность?
— Объективность? Когда у них ее и в помине нет?! — заверещала она в своей знаменитой агрессивной манере. — Так вот что я тебе скажу: даже если бы Цибулова написала полную чушь — а она ее не написала, — я все равно была бы «за»! Пускай у нее там полно всяческой муры, но она все равно гораздо лучше того полированного говна, которое пишется ради лавровых венков!
Она разволновалась так, словно это касалось ее напрямую, и потому снова стала пользоваться лексиконом, который был ей ближе всего. Вряд ли она пользуется им, вдруг подумал я, говоря с молодым Гартманом. Потом Даша хлопнула дверью, и какое-то время я чувствовал себя весьма скверно.
Субботним утром шеф влетел на совещание рецензентов в последнюю секунду.
— Написал отзыв? — спросил он меня шепотом.
— Написал. Вчера тебя не было, и я не мог его тебе отдать.
— Ладно-ладно. Потом зачитаешь.
Он заметно нервничал, и его настроение немедленно передалось мне. Я сравнил его озабоченное лицо с лицом Даши Блюменфельдовой; по-моему, именно такой предстала перед своей свитой не больно-то, по правде говоря, красивая Клеопатра после того, как ей удалось заловить Гая Юлия. Мое настроение упало до нуля. Шеф уселся во главе стола и довольно неуверенно оглядел собравшихся. Слева от него восседал лауреат Жлува, справа — Дудек и Бенеш, напротив них — молодой Гартман, а дальше вперемешку все остальные, то есть мы. Товарищ Брат, естественно, отсутствовал, и еще почему-то не было Андреса. Он и в редакцию вчера не приходил. Впрочем, я не сомневался, что свою рецензию он уже сдал. Причем ясно, какую.
За открытым окном звенела радостная летняя улица; шеф кинул в сторону окна мрачный взгляд и попросил Дудека закрыть его. Он снял пиджак, пробормотав избитое — «при открытом окне собственного голоса не услышишь» и «нам всем должно быть максимально удобно, потому что наверняка станет жарко». Никакого переносного смысла он в свои слова не вкладывал: как только внутрь перестал поступать свежий бензиновый воздух, обещанная жара настала. Мы все сняли пиджаки, а Блюменфельдова расстегнула пуговичку.
— Итак, товарищи, — начал шеф шутливо и впервые за нынешнее утро вытер платком лоб, пока еще совершенно сухой, — я приветствую вас на совещании по поводу интересной, талантливой, однако же неоднозначной рукописи товарища Ярмилы Цибуловой. И, предваряя это совещание, хочу сказать, что не разделяю безудержного восторга, высказываемого некоторыми рецензентами, в первую очередь товарищами Блюменфельдовой и Коблигой. Эти товарищи считают рукопись художественным открытием, в то время как она — всего лишь талантливый дебют.
— Который являет собой художественное открытие, — перебил его Коблига, и совещание, вместо того чтобы идти по драматической нарастающей, сразу достигло пугающей кульминации. — Я нигде не пишу, что это произведение зрелого мастера, — продолжал Коблига. — Но это безусловный и многообещающий талант, и я не знаю, что могло бы помешать выходу повести в свет.
На лбу шефа появилась первая капелька пота, и он смог использовать платок по назначению. Быстро, однако, подумал я.
— Товарищ Коблига, — проговорил он голосом, который непритворно дрожал, — ты не входишь в число редакционных сотрудников. Ты видишь вещи, как бы это поточнее выразиться, с идеальной стороны. А нам, издателям, приходится брать в расчет абсолютно все. Я понимаю, что до недавних пор литература у нас слегка… нивелировалась, вот молодые сейчас и впадают в крайности…
— Какие еще молодые?! Ведь их же пока не печатают! Парочка рассказов в «Факеле» не в счет, — удивился Коблига.
— Но эти рассказы как раз очень характерны! — воскликнул шеф. В этом восклицании звучала нотка отчаяния. Первые ласточки, о которых упомянул Коблига, успели вырасти в небанальном сознании надсмотрщиков за культурой до размеров птицы Ног. До своих истинных размеров, с горечью думал я, пока шеф изо всех сил сражался, поддерживая свою репутацию: — Я совершенно не хочу, чтобы авторы писали только об ударниках труда, но и изображать наше общество исключительно в черных тонах, как это делает Цибулова..
— Но она же пишет о хулиганах, а это темная сторона любого общества! Как можно описывать их в светлых тонах? — подала язвительную реплику Блюменфельдова.
Шеф немедленно сменил тактику.
— Верно. Но задумайтесь вот над чем: сегодня наша молодежь тоже читает книги. Если мы издадим такое, сразу запротестуют учителя, потому что подобная книжка представляет собой настоящее пособие для хулиганов!
Тут ринулась в бой верная когорта. Бенеш заявил:
— С точки зрения воспитательной это просто возмутительно. Разумеется, литература должна заниматься воспитанием менее прямолинейно, чем мы до недавнего времени считали, однако воспитывать молодежь на столь натуралистических примерах…
— Прочитайте вчерашнюю «Литературную газету», товарищи, — перехватил штурвал шеф, боявшийся, что его партия потеряет инициативу. — Там опубликованы рецензии на две новых книги молодых авторов, которых товарищ Блюменфельдова пытается продвигать и у нас. Критик Николаев отмечает в них отчетливые черты натурализма и решительно осуждает их.
— Это военные повести. Об ужасах войны трудно писать без натурализма, — возразила Блюменфельдова.
И тут же получила ответ от Дудека:
— Нетрудно! Совсем нетрудно!
Грузный Жлува не мог больше выносить жару и чуть приоткрыл окно. Звон трамвая приглушил слова шефа, который осторожно продвигался от проблематичной теории к пока еще беспроблемной практике:
— С издательской точки зрения я вижу в этом мало проку, — говорил он. — Мы не можем начать выпуск прозы молодых именно с данного произведения. Натурализм, модернизм — для начала это все-таки слишком. А ведь данная повесть напитана «измами» до предела. Товарищи, — обыкновенное обращение к присутствующим господам и дамам он произнес, как заклинание, — товарищи, давайте подходить к вопросу с практической и, не побоюсь этого слова, тактической стороны. Нас всех очень беспокоит судьба молодой литературы, а поскольку все мы здесь в конце концов люди, то нас не может не тревожить и судьба отдельных молодых авторов. Мы с вами сейчас находимся в узком кругу, и я могу доверительно сообщить вам мнение товарища Крала по поводу последних событий. А товарищ Крал всегда прекрасно информирован.
Он сделал ораторскую паузу и продолжил.
— Товарищ Крал… — шеф говорил замогильным тоном, единственно подходящим для того, чтобы произносить столь грозное имя, — … товарищ Крал внимательно следит за литературной дискуссией и у нас, и не у нас. Недавно я был у него, и мы как раз беседовали о критических статьях Николаева. Николаев — критик весьма уважаемый, мало того, не побоюсь сказать, руководящий и направляющий критик, товарищи.