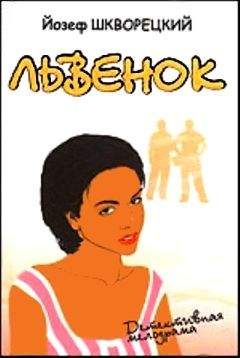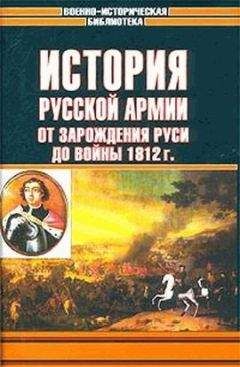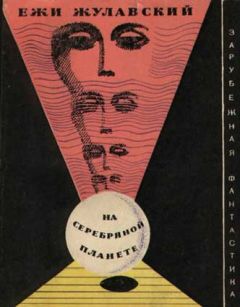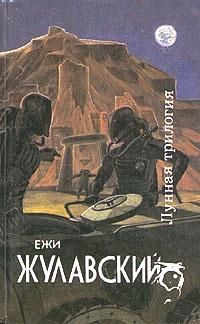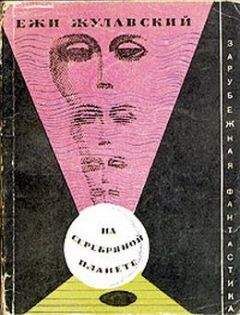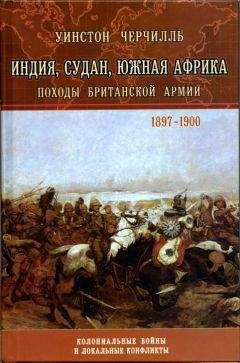Роз. Одна роза, очень далекая от этой theatrum mundi[29], но тоже, кажется, близкая все той же теме Горького, только как-то по-другому, а как — я пока не знал, как раз ехала сейчас в ночном поезде в Либерец и играла в карманные шахматы с директором. А вторая, слегка подвянув, скорее всего роняла невидимые слезы на другой трибуне, но в этом же городе. Мое отсутствие она наверняка объяснила так, как я и замышлял: а именно — моей непорядочностью. И вполне возможно, в ней уже зреет придуманный мною план по-женски отомстить мне с моим лучшим другом. Все было бы просто замечательно, если бы не три большие «но»: что она красивая, что она балерина и что она моя возлюбленная. Три табу, возможно, непреодолимые для моего лучшего друга.
Расправы не получилось. Судья, старый профессионал, не дал гласу народа запугать себя и прервал соревнование по причине неравных сил противников. Толпа попротестовала, похлопала, поднялась с мест и потянулась пить пиво.
Это не была примитивная и однозначная иллюстрация. Все продолжилось в пивной, где возле высокого столика стоял другой мой знакомый, молодой Гартман, а о его плечо опиралась Даша Блюменфельдова. Уже о плечо. Он спорил с Андресом, а еврейская девушка примешивала к этому спору свое верещание — судя по жестам, защищая позиции молодого Гартмана. Я подмигнул ей. Дашины спутники меня не заметили, но от ее зоркого взгляда ничто и никогда укрыться не могло. Несмотря на пощечину, которой она меня недавно угостила, девушка столь же заговорщицки подмигнула в ответ и немедленно, кокетничая, сунула остаток своей колбаски в рот молодому Гартману, сильно проехавшись при этом своей легендарной грудью по его рубашке. Я допил пиво и двинулся к выходу.
И еще несколько штрихов к этой же иллюстрации. Динамик объявил пару в полутяжелом весе: Васко Колакович из Народной Федеративной Республики Югославии и Станислав Анджеевский из Польской Народной Республики, и на лбу коллеги Андреса пролегла глубокая морщина.
За этот вечер она появилась там впервые. Ее не было, когда он на самых высоких нотах человеческого голосового регистра призывал быть храбрыми чехословацких или народно-демократических боксеров, колошмативших капиталистических противников («Бей его!», «Убей его!»); ее не было, когда он более дисциплинированно подбадривал чехословацких боксеров, дравшихся с представителями других народных демократий («Давай!», «Хороший удар!»); ее не было, когда он утешал чехословацких бойцов, избиваемых советскими русскими («Держись, Франта!»), или со знанием дела хвалил советскую школу («Отличный встречный, против такого не устоять!») либо восхищался уровнем соревнований («Прекрасный спорт!»). Этой морщины не было и во время поединков чужих народных демократий: тогда он нейтрально подбадривал обе стороны («Не бойтесь, парни! Все отлично!») с некоторым перевесом в пользу советских боксеров.
Однако в Польше совсем недавно стали издавать детективы, а о югославском режиме всего несколько дней назад неожиданно, причем опять критически, высказался товарищ Крал.
Я подумал, что Андрес мог бы подойти к вопросу с классовых позиций. Но Колакович, судя по программке, был представителем югославской полиции, а Анджеевский — слесарем-механиком. Трудно было в такой ситуации делать выводы об их классовости.
Да и времени уже не осталось. Зазвенел гонг, полицейский со слесарем накинулись друг на друга, толпа зрителей взревела, и я навострил уши.
Два раунда я делал это зря: проблема коллеги Андреса казалась неразрешимой. Даже сугубо спортивный подход был невозможен, потому что соперники лупили друг дружку с одинаковой силой, толпа беспристрастно ликовала после каждого удара по любому из гулких черепов, и Андрес не имел возможности перейти на сторону побеждающего, что он, разумеется, непременно бы сделал.
И только третий раунд решил все, в том числе и дилемму партизана. В начале второй минуты слесарю удалось исключительно ловко врезать противнику в солнечное сплетение. Югослав громко застонал, желудочная колика заставила его согнуться пополам, Колизей увеличил количество децибелов, и из этого океана звуков откуда-то сверху, с самых дешевых мест вырвался отчетливый, всепроникающий голос, исходивший из пропитанной пивом глотки, голос прокуренных высот галереи, Божий глас народа, и глас этот произнес два совершенно понятных и полных здоровой ненависти слова:
— Бей легавого!
Эти слова помогли определиться товарищу Андресу и добавили к иллюстрации новых красок.
— Колакович, не сдавайся! — принял Андрес вопреки своему обыкновению сторону слабого. — Бей поляка! Держись! Вставай! Колакович! Убей его!
Но было уже поздно. Югослав упал на колени, перекатился на бок, потом на спину и отрубился. Божий глас на галерее откровенно ликовал. Колаковича унесли на носилках.
Это поразительный мир, подумал я о мире, во имя которого мы сражаемся с рукописью. Я ошибался. На память о капитализме он оставил себе не только самодовольное хамство. Он унаследовал и некоторые добродетели. Причем не худшие. Кто разберется во всем этом? Я брел по потрескивавшему деревянному проходу сквозь вонь леса, залитого пивом, и все больше удивлялся. Я словно бы лишился очередной непреложной истины. В мозгу у меня мелькали призрачные образы: шефиня в обнимку со жгучей Мари, барышня Серебряная и Даша Блюменфельдова. К ним весьма неприятным образом присоседилась и балерина на атласных пуантах; из ее глаз лились слезы. Я выбрался наконец со стадиона на улицу, на набережную, окаймленную каштанами; ветер наигрывал на их кронах свои излюбленные шлягеры.
Вдалеке на трамвайной остановке светился голубой шар. Я чувствовал себя странно. Была ночь, была луна, чей рыбий глаз следил за мной всю эту полную мук неделю, подобно госдеятелю с давно заброшенного портрета, и под этой луной ехала сейчас в Либерец барышня Серебряная. Я весь устремился к этому видению, к моей чайной розе. Вдруг ей удастся спасти меня, поднять до новых истин, до истинных истин? У меня сжалось сердце. Впервые за много лет я подумал о том, что одинок на этом свете, и впервые за много лет мне это не понравилось.
Погруженный в размышления, я чуть не налетел на парочку, укутанную густой тенью каштана. В темноте блеснули газельи, почти восточные глаза. Я услышал тяжелое дыхание. Это была Даша Блюменфельдова в объятиях дрожавшего и трепетавшего молодого Гартмана.
Я деликатно ускорил шаги, и вскоре и меня скрыла каштановая тьма.
Глава девятая
Совещание рецензентов
Ночь миновала, и свежесть раннего утра избавила меня от моего странного настроения. В трамвае ехали на службу почти обнаженные девушки в прозрачном силоне; в редакции я узнал, что шефа сегодня на месте не будет, и это избавило меня от необходимости сдавать ему рецензию на Цибулову.
А больше ничего не происходило. Я ожидал, что телефон принесет известия о неведомых событиях ночи, потому что подозревал, что они были, причем пестрые и драматичные, но аппарат молчал, и это казалось мне добрым знаком. Об иллюстрации к словам шефини я и думать забыл. Ничего не происходило. Даже на следующий день — и то ничего не происходило.
Кроме того, что после обеда ко мне зашла Блюменфельдова и сделала краткий обзор событий вокруг Цибуловой. Даша была непривычным образом причесана, отмыта, ухожена и одета в совершенно новую блузку, которую я на ней ни разу не видел и которая отличалась декольте, для Праги вообще невиданным.
Ситуация выглядела следующим образом. Из шести внештатных рецензентов четверо выступят — с теми или иными оговорками — за публикацию: Коблига, Брат, Гезкий и молодой Гартман. Когда Даша назвала последнюю фамилию, я воспроизвел свое многозначительное подмигивание в пивной на стадионе, но она, невозмутимая, как сфинкс, просто внесла Гартмана, наряду с двумя прочими, в качестве прихода в свою бухгалтерскую книгу и продолжила отчет: против выступят только Дуда и Бенеш, оба они реалисты как в литературном, так и в других смыслах, и оба принадлежат к шефовой железной гвардии. Что касается шести штатных рецензентов, то после на удивление положительного отзыва Пецаковой не удалось переубедить только сенильного редактора чешских классиков Жлуву, ну и, разумеется, партизана Андреса. Ну и…
— Как насчет тебя? — спросила она в лоб и поглядела на меня своими газельими глазами, как тогда из-под каштана.
А как насчет меня?
— Понимаешь, — сказал я, — вещь, конечно, сильная, но до сенсации ей все-таки далеко…
— Слушай, не зли меня! — Газельи глаза сузились до размера тощих чечевичных зерен. — И что же это, интересно, за сенсации мы тут издаем?
Я опустил голову, и в глаза мне бросился девиз моего редакторского герба. Non edemus, ergo sumus,[30] Дашенька. Но такой картезианский ответ сейчас не годился.