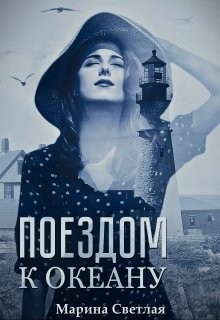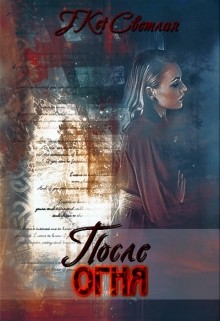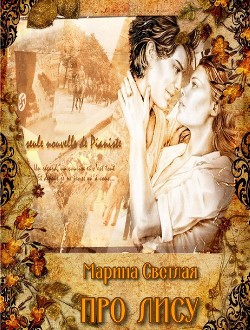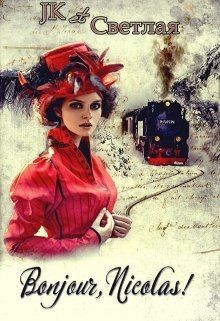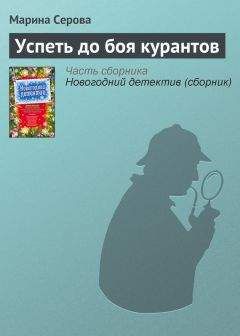Что с Анри — она и вовсе не имела представления. Он обещал не участвовать в боевых действиях. Вот все, что она знала. И еще самую малость — он редкий задира, сам сказал.
В тот же день, когда все столичные печатные издания заполонили события во Вьетнаме, ей неожиданно позвонил Вийетт. Голос его был взволнованным и даже сердитым, но Аньес и ждала чего-то подобного. Если бы не происходящее, она сказала бы, что они оба с ним заигрались. Только это все игрой не было. Они так жили. Она, по крайней мере, точно жила именно так. А теперь ее переломало, и Жером Вийетт еще ничего не знал о том. Он-то был полон сил, не желал мириться с происходившим и едва ли верил в его реальность. Он звонил привычной Аньес, у которой горели глаза и которая четко разделяла, что правильно, а что нет.
— Нам велено залечь на дно где-нибудь подальше от Парижа, — без приветствий и прочей чепухи проговорил он, едва она ответила. — А лучше убраться из страны.
— Кем велено?
— Угадайте.
— Это из-за Тонкина? Нас раскрыли?
— Насколько я могу судить, нет, но явно роют в нужном направлении. Сами подумайте — там столько убитых, парашютистов на аэродроме встретили вьеты. Очень, надо сказать, неласково встретили. Этого просто так не оставят, будут искать.
— Было бы странно, если бы не искали, — хохотнула Аньес и прижала к груди ладонь. Рука была сухой и на удивление не дрожала. Наверное, в ту минуту ей стало впервые за последнее время чуточку легче. И от усталости она приходила к спокойствию.
— Все так не вовремя, — немного по-детски пожаловался Жером. — У меня съемки, а придется рвать отсюда. Нам сутки дали, Аньес, потом мы будем для всех считаться опасными. Даже для своих.
Она сглотнула, пытаясь прикинуть, как можно успеть изменить жизнь за сутки. И то, что она узнавала обо всем от Жерома… ему она верила. Но вместе с тем, сейчас — не верила уже никому. Однако он правильно сказал. Это ей был известен только Вийетт. А ему — кто-то еще. Возьмут одного — посыплются все.
— Далеко собрались? — спросила она, не понимая, что делать дальше.
— Вы считаете, я вам скажу?
— Правильно, не говорите.
Вийетт рассмеялся пусть и с досадой, но будто бы ничего дурного не происходило, ничего страшного, и все это — временно, пройдет. Между тем, у него был только один выход — пока их еще не нашли, уезжать в Испанию, к отцу, тому самому любителю Дорио, разместившему в своем доме штаб нацистов, которых сам Жером ненавидел и против которых когда-то в сорок четвертом тоже боролся, как умел.
Потом смех его оборвался, и он совсем другим, деловитым тоном заявил:
— Все очень серьезно. Не тяните с решением. Я полагаю, это дело нескольких дней.
— Вы правда так считаете? С чего вдруг им подозревать нас.
— С того, что составить список людей, имевших доступ к информации, которую вы предоставили — много ума не надо. Под ударом в первую очередь вы. А потом и все остальные.
— Я поняла.
— Вы поняли?
— Да, поняла.
— Вы знаете, что вам грозит?
— Гильотина. Мне грозит гильотина. Либо пуля из-за угла. Я помню правила.
— Это не шутки, Аньес.
— А раз не шутки, то удачи вам.
— Вам тоже. И не тяните, прошу вас. Не рискуйте.
Она с чем-то соглашалась, кивала ему, а сама глупо улыбалась и, дождавшись, когда Вийетт положит трубку, выдохнула. Ее дальнейший план сам собой сложился очень легко, и она не сомневалась в том, что делать.
На кухне Шарлеза пекла пироги. Мать ушла с Робером дышать воздухом — она теперь часто уходила с внуком, видимо, туда, где не жило горе. Это хорошо, что ее нет, потому что Аньес необходимо было собраться с мыслями и сделать в кои-то веки все правильно.
Она принарядилась и даже накрасила свое бледное, будто без капли крови в сосудах лицо. Убрала под сетку волосы и накрыла их аккуратной меховой шляпкой. Пальто от Диора выглядело как нельзя кстати. И каблуки — непременно. И еще маленькая сумочка, в которой деньги, документы и портсигар с зажигалкой.
Собравшись и крикнув в кухню Шарлезе, что уезжает по делам, она спустилась вниз, к консьержу Вокье, ласково с ним поздоровалась и справилась о погоде.
«Такое солнце, мадам де Брольи, будто дело к лету!» — весьма довольным тоном ответил тот, и она ему улыбнулась, как улыбалась и солнцу, действительно раскрасившему золотом их улицу, где когда-то давно, в прошлой жизни, она была самозабвенно счастлива. Сначала с Марселем. И потом тоже. Один день — когда Юбер неожиданно обнаружил умение играть на гармонике. Аньес уже и позабыла, что на свете есть музыка. Он играл солдатскую, услышанную от американцев в сорок четвертом. И это ему она изменила, а не Франции.
Лета она, должно быть, уже не увидит. Так почему бы не улыбаться солнцу сейчас?
Потом Аньес взяла свой автомобиль, подумав, что, возможно, последний раз им пользуется, и уехала на вокзал Монпарнас, где купила два билета до Ренна на вечерний поезд. У нее еще оставалось несколько часов, чтобы уложить вещи Робера и матери.
Та приняла все без лишних слов. Больше теребила Шарлеза, но мадам Прево несла какую-то околесицу о том, что на теплое время они переберутся подальше от столицы и смогут иногда ездить к океану. Обязательно арендуют летом домик и, может быть, даже съездят в Требул. А почему так неожиданно решили? А потому что мадам Прево всегда была человеком настроения. А почему без Аньес? А потому что у Аньес сейчас здесь дела, а после она присоединиться. А как же можно собраться за половину дня? Помалкивая. Помалкивая, можно собраться, Шарлеза, вот и ступай собираться.
Квартира превратилась в поле сражения и была перевернута вверх дном. И пока они паковали чемоданы, Аньес, чувствуя руки и голову занятыми, имела возможность не думать ни о чем, кроме того, что нужно взять с собой в дорогу. Лишь потом, осмысливая все в одиночестве в свою первую ночь без семьи, пришла к выводу, что сломленному человеку проще, чем тому, что на грани перелома. Ее хребет спасать смысла не было. Зато она очень хорошо понимала, как сберечь остальных.
Мысли о том, что больше никого из них не увидит, приходили к ней опосредованно. Это позднее ей предстоит до конца вникнуть и пережить это.
Женевьева держалась. Видно было, что ей невыносимо страшно, но она держалась, поскольку Аньес тогда, сразу, сказала ей, что придется, потому что есть Робер.
Хуже всего оказалось с ним. Он тянул к матери маленькие лапки, когда Шарлеза забирала его в вагон, и завел свою привычную песню, вереща на всю платформу: «Чу! Чу! Чу!». И Аньес тоже не могла его отпустить. То хватала за ножку в крошечном ботинке. То наклонялась и шептала ему что-то нежное и, наверное, уже последнее, чего потом так никогда и не вспомнила. Проводила губами по его щекам, вдыхала запах. Пыталась хоть на секунду продлить их близость и надеялась, что все это скоро закончится. Чем быстрее ее не станет, тем легче.
Позднее Шарлеза все-таки унесла ребенка, и они оказались с мадам Прево вдвоем, будто никто не толкался на целом вокзале возле них.
— Ты уверена, что остаешься?
— Да. Ты не беспокойся. Я думаю, что все наладится, но что бы ни случилось, хочу, чтобы вы с Робером были подальше. Как только я смогу, я приеду.
— Аньес… — материно лицо явно свидетельствовало о том, что слова даются ей с трудом, что она цепляется за них, как за последнюю надежду. — Мы должны попробовать доехать до Бреста и там… там порт. Я думаю, что было бы разумно…
— Я не могу, мама.
— Но почему, Господи? Я давала слово не спрашивать, но хоть это скажи! Я имею право знать, я должна это знать! Что тебя держит?
Аньес порывисто схватила ее за руки и, быстро склонившись к ладоням, сейчас не скрытым перчатками, стала их целовать, прижала к лицу и тихо проговорила:
— Я должна дождаться одного человека. Я обещала ему, что дождусь, понимаешь? Я причинила ему немало зла, но хотя бы в этом не подведу.
— Даже если…
— Да, даже если.
Мадам Прево поежилась. Ее челюсти сжались, как если бы она терпела сильнейшую боль. Впрочем, должно быть, и терпела. Ладоней они не разъединяли, и Аньес ощутила легкое пожатие, от которого у нее на душе вдруг стало теплее.