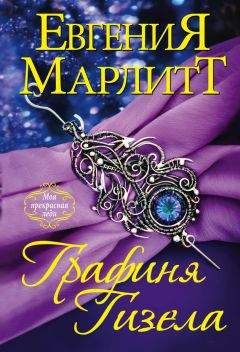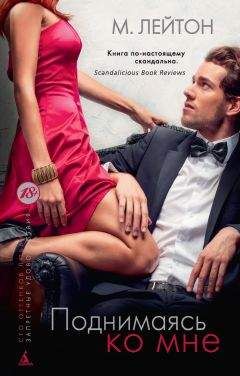Госпожа фон Гербек отлично умела угадывать значение подобных взглядов.
— Ваше превосходительство, если дозволено мне будет сказать, молодой графине следует немедленно вернуться в Грейнсфельд, — сказала она вдруг, выступая вперед. — Посмотрите, на что она похожа!
— И неудивительно, — князь огляделся с неудовольствием. — Воздух этой комнаты может вызвать обморок хоть у кого. Как могли вы выдержать здесь целый час, для меня непонятно, мое дитя.
Он предложил Гизеле руку. Она боязливо отшатнулась от него. Ей следовало непринужденней вести себя с человеком, обманутым таким постыдным образом… Она оказалась соучастницей отвратительного преступления и должна была молча разыгрывать комедию, хотя вся душа ее была возмущена.
— Воздух освежит вас, — ласково сказал князь, взяв ее дрожащую руку.
— Я не больна, ваша светлость, — возразила она твердо, хотя и слабым голосом, и последовала за ним в коридор.
Между тем министр, протянув руку за шляпой, с яростью сбросил с подставки фарфоровую статуэтку, которая разбилась вдребезги.
Старый лес на берегу озера, по вершинам и мшистой почве которого в ночное время играл до сих пор лишь бледный луч луны, сегодняшней ночью, по мановению княжеской руки, должен был засверкать волшебными огнями. В несколько часов лесной луг стал неузнаваем.
На маленькой лужайке было собрано все самое красивое, что было в городе, хотя самые красивые и молоденькие из дам еще не показывались, они должны были появиться в живой картине в виде эльфов, цыганок, разбойничьих невест — всего того, чем поэзия и фантазия наделяют воображение. Между несколькими дубами натянули пурпурный занавес, который в определенную минуту должен был исчезнуть в густой зеленой листве, открыв зрителям обворожительную картину молодости и красоты среди живых, природой созданных декораций — пикантная мысль, привести в исполнение которую готовились искусные руки.
Все эти приготовления к блестящему празднеству не оставляли более ничего желать, между тем было сомнение, что это удовольствие не будет нарушено. Жара была ужасная; веера и носовые платки были в непрестанном движении, даже тень ветвистых дубов и буков не спасала от палящего зноя. Ни один лист не шевелился, поверхность озера была гладка как зеркало, в воздухе висела тишина, предвещавшая грозу.
Медленно, с задумчиво опущенной головой и заложенными за спину руками, шел португалец из Лесного дома. Он был также приглашен, хотя и не выглядел человеком, спешившим на празднество.
С лужайки доносился шум собравшегося там общества; взор молодого человека устремлен был в чащу с таким выражением, будто он шел туда с твердым намерением померяться силой с врагом, которому бросил вызов.
Вдруг около него послышался шорох, из-за куста вышла восхитительная цыганка и остановилась перед ним.
— Стой! — воскликнула она, направляя на него крошечный игрушечный пистолетик.
На ней была черная полумаска, но голос, слегка дрожавший, хотя она и старалась придать ему силы и смелости, округлый подбородок с ямочкой и нижняя часть щек, подобно белому атласу выделявшаяся из-под черных кружев маски, ни на минуту не оставили португальца в сомнении, что перед ним стояла красавица фрейлина.
— Сударь, речь идет не о ваших топазах и аметистах и не о кошельке! — сказала она, стараясь придать своему голосу торжественность и твердость. — Я хочу предсказать вам ваше будущее.
Жаль, что бледная воздушная блондинка не была свидетельницей торжества своей подруги, ибо прекрасная головка, вскользь освещенная золотистыми лучами заходящего солнца, была восхитительна, глаза победоносно улыбались. Он снял перчатку и протянул ей руку ладонью вверх. Она быстро оглянулась вокруг, и черные, сверкавшие в отверстиях маски глаза подозрительно остановились на кустарнике. Тонкие пальцы ее задрожали, когда она коснулась руки португальца.
— Я вижу здесь звезду, — начала она шутливым тоном, внимательно рассматривая линии на его ладони. — Она говорит мне, что вам много власти дано над людскими сердцами, даже над княжескими… Но я не должна также от вас утаить и того, что вы слишком полагаетесь на это могущество.
Португальца веселила сцена, он иронично улыбался, равнодушно стоя перед прелестной гадальщицей, а она, видимо, с трудом выдерживала свою игру.
— Вы смеетесь надо мной, господин фон Оливейра, — сказала она обиженно, оставляя его руку и засовывая за пояс пистолетик, — но я объясню вам свои слова… Вы вредите сами себе своей, извините уж меня, своей неосмотрительной искренностью!
— А кто говорит, прекрасная маска, что я сам этого не знаю?
Блестящие глазки испуганно остановились на лице говорившего.
— Как вы можете с полным сознанием пренебрегать собственным благом? — спросила она с неописуемым изумлением.
— Прежде всего надо знать, что я считаю своим благом.
Минуту она стояла в нерешительности, опустив глаза в землю и как бы раздумывая, не оставить ли ей свою роль.
— Конечно, об этом я не могу с вами спорить, — продолжала она, решившись не прерывать так быстро разговора. — Но вы должны со мной согласиться, что врагов иметь неприятно.
Она снова, хотя несколько колеблясь, взяла его руку и стала рассматривать ладонь.
— У вас есть враги, нехорошие враги, — продолжала она, впадая в прежний полушутливый тон. — Я вижу здесь, например, трех господ с камергерскими ключами — у них всякий раз нервные боли и судороги, как только они заслышат хоть издали намек на простых людей. Впрочем, те три врага не так опасны… Здесь я вижу еще одну пожилую даму, которая очень близка к его светлости. У женщины этой наблюдательные глаза и острый язык.
— Чему обязан я, что графиня Шлизерн удостаивает меня своей ненавистью?
— Тише, сударь! К чему называть имена? Заклинаю вас, — зашептала фрейлина в ужасе.
Ее прекрасная головка завертелась во все стороны, и в первую секунду испуга красавица хотела зажать рот португальца своей крошечной ладошкой.
— Дама эта покровительствует благочестию в стране и не может простить вам четырех еврейских детей в воспитательном доме.
— Стало быть, женщина с умными глазами и острым языком стоит во главе ополчения?
— Именно так, и пользуется значительным влиянием… Вы знаете мужчину с мраморным лицом и сонливо опущенными веками?
— А, властелин сорока квадратных миль и ста пятидесяти тысяч душ, изображающий из себя Меттерниха или Талейрана?
— Он сердится, когда произносят ваше имя. Нехорошо, очень нехорошо и вдвойне опасно для вас, что вы своей неосторожностью дали ему возможность вредить вам во мнении его светлости.