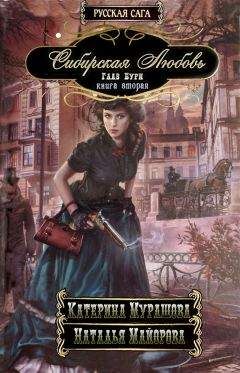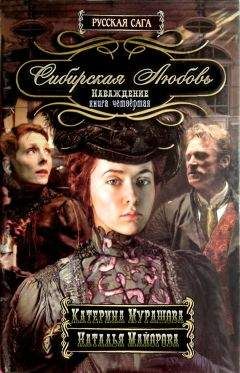Зная Туманова, Софи ожидала ответной вспышки гнева, бурной сцены с воплями и битьем посуды, а потом – либо примирение в постели, либо бутылка-утешительница в кабинете. После подобных скандалов, независимо от их исхода, она всегда чувствовала себя значительно свежее, как после ванной. «Нехорошо, конечно, – так она оценивала свои ощущения. – Но, Господи, надо ж мне хоть как-то развлекаться в моем положении…»
Однако в этот раз Туманов повел себя вовсе не так, как она ждала.
– Господи, Софья, – устало и презрительно сказал он. – Какая же ты все-таки дура! Ну неужели я не мог бы найти этого, того, что ты полагаешь мне единственно нужным, где-нибудь в другом месте? И уж поверь, оно было бы куда веселее и занятнее, чем с тобой…
– Да, я знаю теперь, – кивнула побледневшая и разом успокоившаяся Софи. – Видела. Жаль, что не знала раньше. Такого, что тебе надо, разумеется, нельзя ждать от меня или любой другой девушки моего устройства. Увы тебе, но я никогда не стану носить красных чулок…
– Какие красные чулки? Ты о чем? Что ты видела? – пробормотал Туманов.
– Я ненавижу твою похоть, – тихо сказала Софи. – И себя я ненавижу тоже, потому что не вижу сейчас никакой возможности отмыться от всего этого…
– Да черт тебя побери! – взъярился, наконец, ничего не понимающий Туманов. – Какая похоть! Что ты, учителка замороженная, об этом знаешь?! Да со снулой рыбиной в постели веселее, чем с тобой!
Не дожидаясь ответа, вместе с последними словами Туманов выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Ольга, слушавшая за дверьми и обладавшая неплохой реакцией, на свое счастье, успела отпрыгнуть в сторону. Пронесшийся мимо Туманов ее не заметил.
Через минуту не менее оглушительно хлопнула входная дверь.
Подождав еще чуток, Ольга приоткрыла дверь в комнату Софи, внимательно оглядела барышню, неподвижно стоящую у стола, и беззвучно, испуганно заплакала.
– Собирайся, Оля, – спокойным, совершенно не дрожащим голосом сказала Софи. – Едем домой.
Туманов вернулся в квартиру на Пантелеймоновской к не раннему утру, когда вымороженное, но полное надежд мартовское небо уже начинало зеленеть, а дворники вовсю скребли тротуары. Он был совершенно трезв, голоден и зол, как разбуженный и изгнанный из берлоги медведь. Где и как он провел ночь, – ответ на этот вопрос затруднил бы даже его самого. Где-то в городе – вот и все, что он мог бы сказать.
Квартира была пуста, темна и безмолвна. Какой-то неясный шелест пробудил было надежды Михаила, но скоро он понял, что это шелестят тусклыми, с обсыпавшейся пыльцой крыльями умирающие бабочки.
На обеденном столе лежала записка, состоящая всего из двух строк. Туманов прочел ее и несколько минут молчал, глядя в пространство перед собой. Потом быстро прошагал в комнату Софи, выдвинул ящики бюро, окинул содержимое цепким взглядом. Все драгоценности и украшения, которые он дарил ей, лежали на своих местах. «Черт побери! – вслух воскликнул Туманов. – На что же она станет жить?!» Потом, еще раз приглядевшись, он глухо зарычал. Среди оставленных Софи драгоценностей не было футляра с рубиновым колье, которое преподнес девушке рыцарь в сверкающих доспехах.
Глава 27
В которой Иннокентий Порфирьевич вспоминает господина Достоевского, Софи приходит в себя после разрыва с Тумановым, а Груша-Лаура изображает невинность
Иннокентий Порфирьевич обнаружил Туманова спустя два дня и в его же собственных покоях, которые после отъезда хозяина из игорного дома сохранялись в неприкосновенности.
– Ночью на чужом лихаче приехали, – прошептал провожавший управляющего Федька, не решаясь переступить порог. – И Нелетяга с им. Водки не требовали и вообще ничего. Но у них с собой, кажется, было.
Туманов лежал на полу, вытянувшись во весь свой огромный рост, и был, по всей видимости, мертвецки пьян. Обросший черной щетиной Иосиф сидел рядом с ним, сложив ноги по-турецки, и с застывшей улыбкой гладил Михаила по голове. Вместе они напоминали пару не слишком исправных механических кукол. На столе лежал скомканный листок бумаги.
Спустя некоторое время управляющий заметил, что Иосиф не сидит молча, а что-то тихо говорит, едва шевеля синеватыми губами. Прислушавшись, он разобрал:
«Скука, мой герцог, – это великая сила. Она как вода, которая точит камень. Ее можно заставить отступить, но нельзя уничтожить, так как она имманентно присуща человеческой природе. Рано или поздно она настигает каждого. Сначала человек борется, надеясь победить, но потом надежда постепенно истаивает и человек умирает…»
Поразмыслив, Иннокентий Порфирьевич взял со стола листок, разгладил ладонью. Нелетяга никак не прореагировал ни на появление управляющего, ни на его действия.
«Туманов, вы идиот! – прочел управляющий. – Рыбы бывают снулыми лишь тогда, когда их вытащили из воды и не дают дышать. Прощайте. Софи Домогатская.»
На досуге Иннокентий Порфирьевич с изрядным удовольствием почитывал произведения господина Достоевского и умел оценить горькую ироничность действительной жизни. Еще раз окинув взглядом представившуюся сцену, он вспомнил обращение в записке и мелко захихикал. Потом утер ладонью выступившую слезу, встряхнулся и отправился восвояси, чтобы сделать соответствующие ситуации распоряжения.
Приветствую тебя, милая Элен!
Я снова в Калищах. Что, как, почему – не спрашивай, не спрашивай, не спрашивай. Ничего не могу объяснить. Даже тебе. Да и себе тоже. То, что следует знать: с Тумановым все покончено, окончательно и бесповоротно. Кто и в чем виноват – возможно, когда-нибудь, много времени спустя, я сумею подумать об этом. Но не сейчас, не сейчас, не сейчас!
Дела мои сперва казались вовсе плохими, и вроде бы планировалась длительная меланхолия, сплин, всяческие умирания и переживания по поводу разрушенных надежд, поруганной чести и прочих странных материй, придуманных брехливыми и скучливыми викторианцами. На деле оказалось, что без всего этого вполне можно обойтись, если специально не растравлять своих несчастий, и занять себя хоть каким делом.
Дело обнаружилось почти сразу, так как мои ученики и их родители до сих пор никого взамен меня не получили, и встретили блудную учительницу с откровенной и искренней радостью, которая тронула меня преизрядно, более даже, чем я могла предположить, находясь в нынешних, растрепанных совершенно, чувствах. За время моего недолгого отсутствия самые тупые ученики позабыли абсолютно все, чему я их учила, а прочие – примерно половину, так что мне сразу пришлось подобрать рукава и сопли, и браться за дело всерьез. Кроме того, я осталась без горничной, так как моя Ольга нипочем не захотела уезжать из Петербурга, и надеется устроить там свою судьбу путем брака с добродушным и туповатым мужиком Калиной, нашим общим знакомцем. Исполать ей! Только избавившись от нее, поняла, как же она меня раздражала. И даже не понять – чем. У тебя так бывает ли?