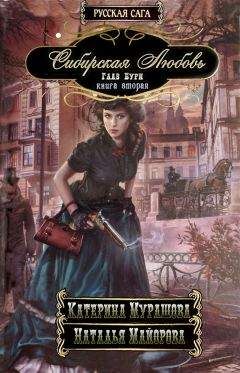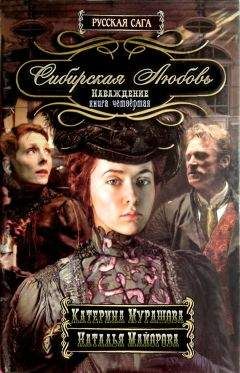Только ты ж тогда все поймешь и меня прогонишь!
Да, вот так все выходило, эдакий, как выражался ученый Иосиф Нелетяга, заколдованный круг. А главное, что сама Грушенька в этих удовольствиях совсем не нуждалась. Знала она, что от этого хорошо бывает, да ей – не было. Давно уже не было. Даже с барсуками, не то, что с Гришей. Ей достаточно было просто смотреть на него и слушать. Радовать его. А постель… Постель – это работа.
Досталась ей такая работа по случайности да слабости характера, а точнее сказать – по глупости беспросветной. Других-то, когда приходит срок, матери остерегают или природа. А она… Год назад она была еще меньше, чем теперь: худосочная, вся из прутиков, ростом с вершок. Никому, в том числе и маменьке, в голову не приходило, что с ней можно не только в куклы играть. Ей самой, разумеется, тоже. Никаких пробуждающихся инстинктов она не чувствовала, да и не подозревала, что таковые бывают. Потому и с соседом Семушкой, приехавшим из Петербурга в гости к родителям, пошла на чердак без всякой опаски.
Этот Семушка служил приказчиком в Гостином дворе. Он и теперь там служил. Вчера, когда ходили с Лизой покупать платье, она его там видела. Поздоровались, поговорили даже. Так, пару слов: Семушка недовольно дергал тонким усом и все смотрел по сторонам, опасаясь, что начальство застанет его в эдакой компании. Как будто у Грушеньки на лице написано, что она – уличная!
И ведь написано.
Тогда, на чердаке, Семушка что-то такое ненадолго в ней разбудил. Ей понравилось. Хотя по-настоящему-то (это она уже потом поняла) он ее и не тронул. Он же, как оказалось, старался отнюдь не для себя – для одного полезного человечка в Петербурге, которому нравились как раз такие малолетки. Семушка Грушеньку раздразнил, заговорил, да и увез с собой в столицу. А там…
…Хуже всего пришлось, когда этот самый полезный человечек, Матвей Денисович Потыкин, выставил ее за дверь. Это случилось месяцев через пять – по причине Грушенькиной беременности. Она его даже не осуждала. Ведь и впрямь, что бы он стал с ней делать? Где какую бабку искать, чтобы вытравила, или там что? Сама виновата – не убереглась. Грушенька тогда пришла на (?..) вокзал и села на лавочку, поставив рядом свой маленький саквояж. Долго сидеть она не собиралась, чтобы не привлекать ничьего должностного внимания. Домой ехать – тем более. Маменька-то ведь не сомневалась, что дочка пристроена, в модном магазине служит, – каждый день Семушкиным отцу с матерью спасибо говорила! Она до сих пор, кстати сказать, так думала. Когда-нибудь тайна, конечно, раскроется, по-иному-то не бывает… Грушеньке очень хотелось, чтобы это произошло как можно позже.
Тогда, сидя на вокзале, она много чего передумала. В том числе и о самом плохом. Поезда пыхтели и свистели, и Грушенька, глядя на них, прикидывала, что вот сейчас встанет и пойдет по перрону к черно-красным лязгающим колесам, к горячему пару… Нет! Ничего такого она не сделала. Глупо, грязно. И в Лебяжью канавку не кинулась, как та бедная девица из книжки, над которой она плакала как раз накануне. У девицы была смертельная любовь. Возлюбленного звали Эраст (точно как Грушенькиного покойного папеньку), и был он до того хорош, что за такого можно и в канавку. У Грушеньки же не было не только любви, но и ничего на нее похожего. Матвей Денисович ни за что бы не смог, да, впрочем, и не пытался ввести на сей счет в заблуждение даже самую наивную простушку.
В общем, покончить со своей никчемной жизнью Грушенька в тот день так и не решилась. Вместо того пошла куда глаза глядят… ну, и в конце концов набрела на товарок по несчастью. Вернее, бывших товарок, потому что у них все эти страсти роковые были уже далеко позади. Грушеньке очень повезло – теперь-то она понимала, какое это было редкостное везение! – барышни, встреченные у Сенного рынка всего-то на третий день после изгнания от Потыкина, оказались не так себе кто. Они привели ее к своей хозяйке. Эта смуглая дама с черными нерусскими глазами заворожила Грушеньку с первого взгляда. Она двигалась и говорила плавно, тягуче и звонко, будто речка в ивовых берегах. В ней была совсем особенная, необычная красота и – грех, грех… не тот даже грех, о котором твердил ей Матвей Денисович, когда она стала ему надоедать, а – иной, куда более соблазнительный и опасный.
Тем же вечером в жарко натопленной бане, полной горько-сладких незнакомых ароматов, Грушенька безболезненно и как-то почти незаметно избавилась от своего несчастного плода. Она так ни разу и не сумела подумать о нем – «ребенок»; и от этого было так невыносимо стыдно, что опять захотелось закончить все самым радикальным образом, сразу и навсегда.
Грушенька вспомнила об этом, и стыд тотчас ожил, совсем свежий и жгучий. Она схватилась за край кровати, подавляя порыв немедленно вскочить и бежать… нет, не под поезд и не в канавку – в церковь! Там всенощная как раз. Внутрь-то не войдет, совестно, да хоть постоит в притворе. Осторожно откинула одеяло, поднялась – пружины даже не скрипнули. Вот и хорошо. Гриша спит себе, вот и пусть спит. Она даже одним глазком на него не взглянет, чтобы не разбудить. Ей этого не надо. Ничего ей не надо, никакого Гриши!..
Еще вчера она была уверена, что Лизин совет – чрезвычайно дельный. «Ты люби его, люби так, как только умеешь, привяжи его к себе накрепко! Чтоб он только о тебе и думал, только тебя и хотел!» И откуда только ей, Лизе, о таких делах знать-то? Вроде – порядочная… Впрочем, что там. Лиза, это было понятно по ухваткам и недомолвкам, в таких делах очень даже разбиралась. Может, куда получше шляпницы Лауры. И что-то было у нее на душе… какая-то тайная комнатка, мало подходящая для богоданного мужа Кузьмы, гераней и занавесок с незабудками. Грушеньку это иногда пугало, а иногда – хотелось пожалеть Лизу… вот уж непонятно, с чего!
Впрочем, Лизины сложности ее мало занимали. Если она о них сейчас и вспомнила, то оттого, наверно, что не хотелось думать о своих. Она тихо отошла от кровати, потянулась за платьем, переброшенным через спинку стула. Ветер за окном раскачивал фонарь, и блеклый желтый свет бродил по незнакомой комнате, высвечивая углы громоздкой мебели. На столе, рядом с книгами, сдвинутыми на угол, поблескивала чайная посуда. Гришина чашка была почти полна. Он весь вечер нервно отхлебывал из нее, а Грушенька доливала, и долила в последний раз перед тем, как…
Ох, как же его колотило, как дрожали руки и необыкновенным, смутным блеском сияли глаза! Грушенька и сама готова была от страха в обморок упасть – чуть раньше, когда они еще пробирались коридором мимо двери квартирной хозяйки (как индейцы по тропе войны, сказал Гриша, и она сразу вспомнила объяснения Софьи Павловны: с носка на пятку… это привычка…), – но потом страх пропал, и ей снова захотелось смеяться и плакать, особенно когда Гриша, торопясь и обрывая слова от волнения, стал уговаривать ее не пугаться, объяснять, что он – умеет… знает, как надо!