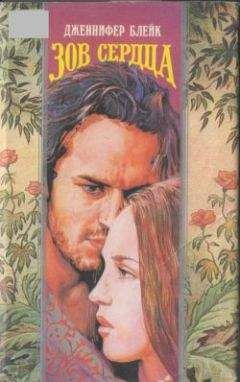— По-моему, — сказал Уолтер, разглядывая картину с любовью и любопытством, подобно тому, как Колумб смотрел на берега Америки, — эта картина говорит сама за себя. Если бы я нуждался в деньгах, то не побоялся бы отнести эту работу в Национальную галерею. Это должно стоить никак не меньше семисот пятидесяти фунтов.
— Я бы не удивился, будь оно так на самом деле, — сказал Джарред, и затем они оба начали в мельчайших подробностях обсуждать картину.
— Да, некоторые детали этого произведения придают ему очарование, — произнес Уолтер Лейбэн, — ведь нет ничего прекрасного в самой женщине, чистящей лук.
— Нет, — ответил Джарред, — если бы я был миллионером, как вы, я бы не стал собирать этих старых женщин, даже если они нарисованы Джан Стином, Остэсом или Броверсом. Тогда бы я угасил свои стены красотой. Например, Гайде, картины которого у тебя есть. Я говорю это не потому, что продаю их. У меня просто есть желание разбогатеть и повесить такие картины у себя над камином. Я бы мог сидеть и часами смотреть на них, и чувствовать себя при этом счастливейшим человеком.
Джарред сказал это, посмотрев на большую картину в углу, на которой была изображена Магдолина, смотрящая вверх на фоне багрового неба — шедевр, продать который ему не удавалось уже долгое время.
— Мне не нравятся большие картины, Гарнер, и этот ваш Гайде — совершенный ноль. Продавайте его вашим знакомым в Сити по квадратному футу. Он замечательно подойдет к их безвкусным комнатам.
Луиза вернулась, в свой угол, рядом с камином, но не села на решетку и не стала продолжать штопать носки. Она наблюдала за гостем, в то время как он расхаживал по комнате, куря сигару. Не было нужды даже спрашивать о том, можно или нельзя курить, — в кабинете Джарреда всегда было душно от дыма. Уолтер то и дело вынимал изо рта сигару для того, чтобы бросить очередную фразу об искусстве. Причем его поведение в эти моменты было куда менее сдержанным, чем в те минуты, когда он общался со своими друзьями на Фитсрой-сквер. Здесь же, в этой комнате, которая, казалось, полна тайнами искусства, его душа находила себе простор, лицо озарялось каким-то вдохновением или, по крайней мере, оно казалось таким Луизе. Он говорил о том, что сделает в будущем, сравнивал себя с великими художниками и обещал, что когда-нибудь сравняется или превзойдет их. Однако такие его речи вряд ли казались хвастливыми или опрометчивыми, скорее они были сказаны человеком, способным отвечать за свои слова.
— Они могут пренебрегать сегодня мной, Гарнер, — сказал он, — но в скором времени изменят свое мнение.
— Время и работа — вот лозунг для человека, который хочет добиться успеха, не правда ли, мой старый друг?
— Время и работа, — повторил Джарред, стараясь угодить своему гостю, на самом деле желая сказать — время и переработка вашей мазни.
Молодой художник был оскорблен отказом взять его небольшую картину на одну из зимних выставок. Даже осознание того, что он владеет шестьюдесятью тысячами фунтов не приносило ему успокоения. То, что он сейчас говорил, было своего рода самоутешением, рапсодией честному труду и будущему успеху. Внезапно он остановился на самой середине своего высказывания, выбросил недокуренную сигару и разразился искренним, добродушным смехом.
— Какой же я дурак! — воскликнул он. — Должно быть, вы подумали, что я самодовольный выскочка, мисс Гарнер! Понимаете, если одному человеку дают шлепок, а он не может ответить так же, то единственный путь выпустить свой пар — это потрепаться языком, Я хочу сказать, что, наверное, те люди, которые не взяли мою картину, были правы. Но если бы я рисовал на другую тему, они бы взяли мою картину, Гарпер?
— Я бы не дал и кончика пальца за мнение лондонской комиссии по картинам, — ответил мистер Гарпер с большим презрением. — Предрассудки, выгода и эгоизм — вот судьи ваших картин. В этой академии не так много людей, которые могли бы учить.
— Хватит говорить об этом, — попросил Уолтер, польщенный, тем не менее, замечанием Джарреда. — Я полный дурак, что пришел сюда и стал рассказывать о себе и своих неудачах. Я надеюсь, вы простите меня, мисс Гарнер, — проговорил он с элегантной учтивостью, проявляемой им по отношению к женщинам.
— Мне нравится, что вы так говорите о себе, — ответила искренне девушка.
— Правда? Это хорошо. Я боялся, что являюсь очень скучным типом. Но вы ведь любите картины и, думаю, можете заинтересоваться моей встающей на ноги персоной.
— Встающий на ноги художник с огромным капиталом за спиной! — воскликнул Джарред. — Это как раз то, что я называю счастливым началом карьеры.
— Теперь послушайте меня, Гарнер. Я вовсе не хочу сказать, что мне так уж нужны деньги для того, что я делаю. Я видел бедность в своем детстве — светскую бедность, которая, как вы знаете, хуже всего, и поэтому знаю, что такое деньги. Но думаю, что смог бы отказаться от всех денег, которые мне достались по наследству от дяди, которого я ни разу не видел, и начать новую жизнь одиноким парнем на улицах Лондона, если бы мог рисовать так, как Этти или Джон Филип.
Уолтер был верен своему слову и в течение вечера больше не затрагивал эту тему, хотя и оставался в гостях допоздна. Он был очень раскован этим вечером и оказался своего рода оазисом в пустыне серости и уныния, которые окружали Луизу Гарнер; она наслаждалась прохладным и свежим потоком его слов, позабыв о завтрашнем дне, в котором ничего не останется, кроме горячего песка безразличия и сухости обыденной жизни.
Было много теплоты и искренности в речи Уолтера Лейбэна, безусловно, он обладал даром красноречия. В его словах, пожалуй, было мало чего-то нового, но он сильно отличался от других молодых людей, которые обычно наводили только скуку, так что мистера Лейбэна можно было даже назвать оригинальным. Все в нем было такое яркое и живое; и волосы, и глаза, и жесты. Казалось, что его переполняет жизнь, настроение его менялось очень стремительно и имело тысячи цветов и оттенков.
— По-моему, Гарнер, есть что-то необычное в вашей комнате. Мне всегда нравится бывать здесь, думаю, это потому, что вы разрешаете говорить так много. Может быть, я делаю это в приступе какого-то отчаяния. А может быть, это ваше влияние, мисс Гарнер, — сказал он, бросив дружеский взгляд на бедную Лу, которая несколько смутилась от этого. Могла ли девушка в свои восемнадцать лет не восхищаться кем-либо? После отца Уолтер Лейбэн был вторым человеком, которым восхищалась Луиза.
— Я не думаю, чтобы ее влияние могло распространяться так далеко, — проговорил Джарред, — особенно учитывая то, что она сидит здесь, как пень, и рта не раскрывает.