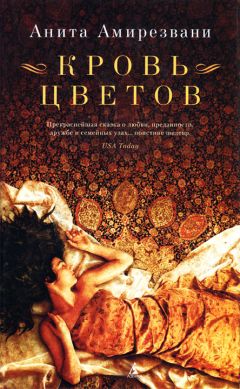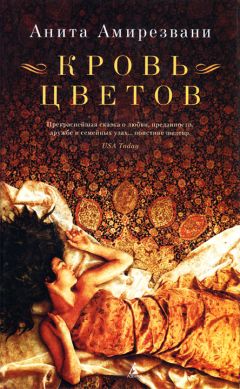— Как ты изменилась! — воскликнула она.
— Здесь в городе все меняется быстро, — пробормотала я.
— Нет, я не это имела в виду. — Она подвела меня к свету. — Посмотри на себя!
Нахид оглянулась оттуда, где она нежилась, и несколько женщин, мывшихся по соседству, тоже уставились на меня. Мое тело залито было солнечным светом, падавшим сверху. Я попыталась наклониться, чтобы прикрыть себя, но Хома удержала меня.
— Последний раз, когда я тебя видела, ты выглядела маленькой девочкой. Почти ничего здесь, — сказала она, ткнув мне пальцем в грудь, — а здесь просто ничего. — Она шлепнула меня по бедрам. — И что случилось всего через несколько месяцев!
Это была правда. Я так и не выросла, ноги и руки у меня были маленькими, как у ребенка. Но от шеи до бедер мое тело округлилось на удивление. Мои груди, прежде такие маленькие, были теперь как два спелых яблока, а бедра были круглыми, словно дыни.
— Неужели ты тайно помолвлена?
— Нет, — сказала я.
Можно было предположить, что последнее время я стала есть больше сыра, мяса и хлеба.
— Значит, скоро будешь, — добродушно сказала она.
Хома вертела меня, стараясь разглядеть каждый изгиб.
От стыда я вся покраснела. В хаммаме некуда было спрятаться.
— Твое тело совершенно, как юная роза, — наконец провозгласила она. — Скоро тебя одарят мужем, который, да будет на то воля Аллаха, возлелеет каждый лепесток. И Хома начала петь старую южную свадебную песню, голосом прекрасным, словно у соловья.
Юная горянка посреди цветов,
Волосы твои словно фиалки, а тюльпаны — щеки твои,
Не слушай больше птичьих песен,
Ведь прекрасный молодой пастух идет покорить твое сердце
песней!
Несколько женщин подхватили, а некоторые вскочили и начали притопывать и хлопать в ладоши. Не зная, что делать, я тоже запела. Женщины подбадривали меня, словно это была моя свадьба. Забыв о смущении, выпрямившись во весь рост, я пела.
Когда песня кончилась, женщины стали еще больше смеяться и рискованно шутить.
— Слышала, крепкие молодые пастухи знают, как обращаться со своими женами, — ухмыляясь, сказала одна.
— Отчего бы и нет, они это в стаде видят целыми днями! — воскликнула другая.
Таков был подарок мне от Хомы — воспеть мое созревание в хаммаме перед всеми женщинами, которые могли знать подходящего мужа. Она также показала, что мне самой есть что предложить.
— Теперь ты одна из нас, — одобрительно сказала Хома, — за исключением некоторых подробностей, которые ты скоро узнаешь.
Женщины вернулись к своим банным делам, а Хома начала тереть мне спину киссехом. Она поглядела на Нахид, чье тело по-прежнему было худым и длинным, как кипарис.
— Что бы ты ни ела, Нахид тоже должна есть, — сказала Хома.
Глаза Нахид были закрыты, и она не ответила. Я не могла понять, спит она или просто притворяется.
И почему мы всегда думаем, что у соседей курица вкусней нашего гуся? До конца дня я перестала завидовать тому, что у Нахид такая белоснежная кожа, такие кудрявые волосы и такие изумрудные глаза.
В награду за мою помощь с ковром для Ферейдуна Гостахам обещал показать мне ковер, которому не было равных по красоте, и как-то он наказал мне прийти в шахскую мастерскую после последнего призыва к молитве, чтобы увидеть ковер, который будут бережно хранить веками. Я даже не могла представить себе такое сокровище: в моей деревне ковры использовали, пока те не изнашивались в прах.
Я вышла из квартала Четырех Садов, когда прозвучал последний призыв к молитве. Люди расходились от Лика Мира, ибо призыв означал завершение дня. Торговцы собирали свои товары и готовились отправиться домой. Я прошла мимо человека, несшего корзину неспелого миндаля, который я очень любила. Ядра орехов были мягкими, как сыр, но гораздо вкусней.
В мастерской со станками, где я уже побывала, Гостахам ждал меня. Ни одного рабочего не было, и стояла тишина.
— Салам, — оглядевшись, сказала я. — А где же все?
— Дома, — ответил он. — Иди за мной, да побыстрее.
Он вел меня через комнаты, увешанные коврами на разных степенях завершенности. В конце длинного коридора мы подошли к двери, запертой на большой железный замок, изогнутый, словно скорпион. Посмотрев по сторонам, Гостахам убедился, что поблизости никого нет, достал ключ из кармана рубахи и открыл дверцу. Потом зажег два маленьких светильника и протянул один из них мне. Огонек осветил большой ковер на станке.
Держа перед собой лампы, мы приблизились.
— Смотри внимательнее, — сказал он, поднеся лампу к ковру. — Восемь человек работают над ним уже год, а закончена только четверть.
Сейчас ковер был примерно моего роста, а значит, должен получиться в четыре моих роста. На каждый радж приходилось около восьмидесяти узлов, а узоры были точны, словно на миниатюре. Наездники в оранжевых и зеленых шелковых рубахах, золотых и белых тюрбанах преследовали антилопу и газель. Полосатые тигры и дикие ослы боролись друг с другом, как братья. Музыканты играли на лютнях. Райские птицы чистили перья, распуская свои украшенные драгоценными камнями хвосты. Люди и животные выглядели будто живые, совсем как настоящие. Это был самый прекрасный ковер из всех, что я когда-либо видела.
— Кто может позволить себе такой дорогой ковер?
— Этот мы ткем для покоев шаха. Он олицетворяет самое лучшее на нашей земле — нежнейший шелк, богатые краски, лучших ткачей и художников. Это ковер переживет тебя, меня и даже детей наших детей, когда они станут прахом.
Я вгляделась в ковер пристальнее, стараясь держать лампу на безопасном расстоянии. Взгляд мой остановился на фигурке, сидящей возле кипариса.
— Как им удалось так точно изобразить человека?
— Здесь дело не в фигуре, а, скорее, в лице — такая работа требует высочайшего умения. Другие ткачи кланялись особым искусникам, когда пришлось делать глаза человека. Иначе лицо получилось бы равнодушным, пустым или даже злым.
— А что вы скажете о цветах?
— Они настолько хороши, насколько это нужно для лучшего из ковров, — ответил он с лукавой улыбкой, которой я сперва не поняла. — Посмотри, как сверкает золотая нить, освещая сложность узора. Приглядись, как тусклые цвета — блеклый зеленый, скромный бежевый, бледный голубой — подчеркивают самые насыщенные цвета, словно перья павы подчеркивают красоту павлина.
— Замечательно, — согласилась я. — Чья это работа?
— Моя, — ответил Гостахам, и мы оба рассмеялись.