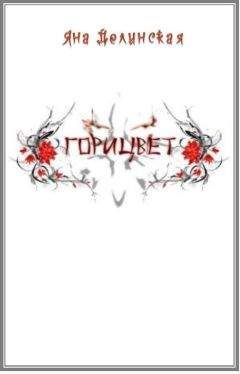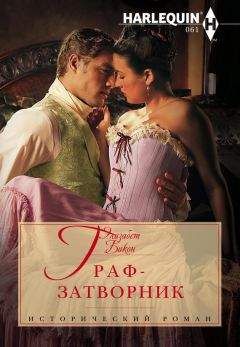Домой ехали с продолжительными остановками через Швейцарию и Германию. В Люцерне Аболешева показали тамошнему специалисту по нервным болезням. Жекки предполагала, что Аболешев страдает эпилепсией, и именно с этим недугом связала все странные особенности их отношений; само собой эта догадка стала для нее страшным ударом. Но, осмотрев пациента, профессор Штайер диагностировал совершенно непрофильное для своей специализации заболевание — костный туберкулез. Заявленный приговор звучал ничуть не более утешительно, чем терзавшие Жекки предположения. Это был именно приговор, поскольку способов излечивания такой болезни современная медицина не предлагала.
Жекки находилась на грани нервного срыва. Столь резкий переход от упоительной радости, сопровождавшей ее все время свадебного путешествия вплоть до последних событий на приморской вилле, к полному провалу в безысходность, невозможно было пережить безболезненно. Лишь обострившаяся до полного самоотречения привязанность к Аболешеву поддерживала ее.
Ей врезался в память легкий светский говорок двух француженок, пациенток Штайера, наблюдавших во время прогулки за тем, как по дорожке в саду клиники Йоханс катит пред собой коляску с сидящим в ней беспомощным Аболешевым:
— Вы видели? Кто это? Новенький?
— Какой-то русский аристократ. Он путешествовал с молодой женой, и вот, такое несчастье. Профессор считает, что дни его сочтены.
— О, неужели? Как жаль. Он так молод.
— И так хорош собой, вы хотели сказать?
— Дорогая моя, что за намеки? Русский аристократ… я не настолько глупа, чтобы мечтать о нем.
«Бедные вы дурочки, — подумала Жекки, проходя мимо и стараясь не смотреть на них, — если бы Аболешев вас услышал, то посмеялся бы от души». Насколько она знала, для него понятия «русский» и «аристократ» несоединимы в принципе. Недаром он столько раз подшучивал над теми нередкими чудаками, которые пытались обвинить его в аристократизме. Сама Жекки не сильно занималась подобными темами. Она даже в точности не могла бы сказать, что имел в виду Аболешев, говоря об аристократии, поскольку он не утруждался подробностями. Раз высказавшись на какую-то тему, он не имел привычки к ней возвращаться. Ему становилось скучно. Жекки же было вполне достаточно того внутреннего безотчетного ощущения Аболешева, которое прочно осело у нее в душе, и которое, вопреки всяким парадоксальным выкладкам, не допускало никакого другого истолкования его индивидуальной природы, кроме неразрывного с ней врожденного благородства. Другим Аболешева она попросту не принимала, не чувствовала. Ему же, скорее всего, доставляло немалое и столь же безотчетное удовольствие время от времени находить подтверждения невозможности его связи с окружающим миром. Вопрос о русской аристократии подходил для этого ничуть не хуже, чем что-то другое.
Когда Аболешевы поселились в Никольском, Павел Всеволодович едва мог ходить. Но по настоянию Жекки, Йоханс каждый день выводил его по три-четыре раза на прогулки в заброшенный парк, окружавший усадьбу. Жекки считала, что нужно пользоваться последними теплыми деньками — стоял конец августа — и ни в коем случае не запирать больного в четырех стенах, поскольку чистый, наполненный запахом хвои и трав, воздух, по меньшей мере, не мог ему навредить, а по большому счету — должен был послужить единственным на тот момент лекарством. Собственно говоря, Йоханс придерживался того же мнения. Его первоначальные намерения по спасению герр Пауля полностью осуществились, и теперь требовалось лишь усилить попечение о нем. Жекки была довольна хотя бы тем, что Йоханс, укрепившийся в надежде на выздоровление барина, перестал смотреть на нее с отталкивающей холодностью. Он прилежно следил за исполнением всех предписаний, сделанных врачами, спокойно принимал к сведению указания Жекки, и с удовольствием выводил Аболешева в парк на прогулки.
Примерно спустя месяц после водворения в Никольском, к Павлу Всеволодовичу мало-помалу стали возвращаться силы. Он, наконец, позволил себе снять предписанный профессором Штайером лечебный корсет, сжимавший долгие недели в жестком панцире все его туловище от основания черепа до поясницы. Все эти ноющие, скрежещущие болью, саднящие позвонки, хрящи, кости и почти онемевшую от неподвижности, изможденную мышечную плоть. Он начал выходить из дома без помощи камердинера, хотя тот по-прежнему всюду следовал за ним. У него появился вялый, непостоянный аппетит и лицо, имевшее до того абсолютное сходство с посмертной маской, постепенно вернуло себе черты живого человеческого лица. Ему настоятельно требовалось присутствие Жекки. Постоянно полулежа в креслах, он держал ее за руку. Иногда просил поиграть что-нибудь на рояле, но, видимо, не слишком удовлетворяясь ее ученической игрой, переключался на книги из старой библиотеки. По его просьбе Жекки читала ему, в основном, стихи. Одним словом, чутье не обмануло Йоханса, и Аболешев, очутившись в родных краях, пошел на поправку.
Но, отступив, болезнь все же оставила по себе один, явный, не заживающий шрам. Если и прежде речь Аболешева, не совсем правильная и чистая (по-русски он говорил с легким, вероятно, поставленным акцентом неопределенного происхождения), давала о нем представление как о человеке, получившем хорошее воспитание, или даже как о человеке из определенной, довольно замкнутой, сословной касты, и носила на себе заметный отпечаток какой-то искуственности, какой-то предвзятой натянутости, то теперь, после пережитого им страшного приступа, окончательно превратилась в нечто неудобоваримое. Первое время он вообще не мог говорить.
Речевая способность возвращалась к нему постепенно вместе с мышечными рефлексами. И если последние давали надежду на полное восстановление, то в отношении речи такой надежды почти не осталось. Аболешев словно бы отступил в область бессловесного. Не то, чтобы он совсем не мог высказать какое-то простое суждение, и не то чтобы он утратил какую-то, привитую в детстве, речевую привычку, но он, казалось, совершенно потерял всякий вкус к общению посредством слов. Будто бы травма, нанесенная его речи, захватила и нечто более глубокое и цельное, что подпитывало ее изнутри. Было похоже, что Аболешеву не только физически тяжело двигать языком, сжимать или растягивать губы, произнося какую-то фразу, но, что все эти необходимые для словоизлияния движения сделались ему как-то до отвращения скучны и не нужны, как-то чересчур мучительны, как будто всякий смысл, порождавший их прежде, был совершенно утрачен. И может быть, потому в дни выздоровления так особенно ясно обозначились его неубывающая музыкальность, звуковой голод — внутренняя потребность, которую он пытался, но не мог утолить.