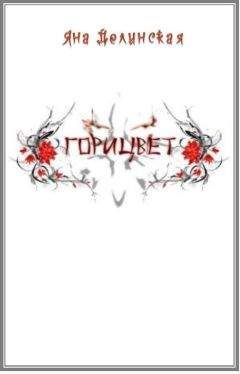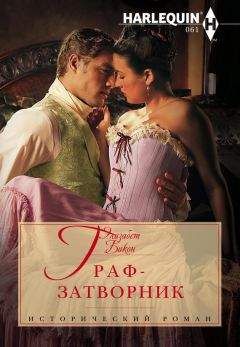Само собой, после этого ни о каких попытках еще что-то изменить, не могло быть и речи. Но сомнения и тревожные мысли не отпускали ее. И чем дальше Жекки углублялась в поиски ответов, объясняющих поведение мужа, тем однозначнее склонялась к выводу — Аболешев ей изменяет.
Бывали минуты, когда она могла бы с полной уверенностью утверждать это, если бы… Если бы такие крайние, настигавшие ее, приливы отчаяния не перебивали сказанные когда-то Аболешевым слова, всегда взрывавшие ее память ярким слепящим светом: «Что бы потом ни случилось, знай, в этом мире я люблю только тебя, Жекки, люблю и буду любить только тебя». Да он это сказал, словно предвидя будущие размолвки и неизбежные недопонимания. По-другому и быть не могло. В отличие от нее, доверчивой и наивной, вступая в брак, он, наверное, знал, что предстоящий им совместный путь не будет устлан одними розами. После той первой ночи он просил ее верить ему. Жекки закрывала глаза, воображая себе его лицо в ту сокровенную минуту, и как никогда ясно понимала, что обмануть ее способен кто угодно, только не Аболешев. И дело было даже не в словах, а в том, до какой степени, как она чувствовала, неорганична Аболешеву любая ложь, даже самая мелкая. «Нет, он не мог бы меня предать», — уверяла она себя и успокаивалась. Но так как в поведении Павла Всеволодовича с течением времени ничего не менялось, одних успокаивающих воспоминаний становилось недостаточно. Сомнения подкрадывались снова и снова.
Мало того, что Жекки терзалась бешеной ревностью, ей по-прежнему не хватало духу заявить напрямик о своих подозрениях, а значит, ее терзания только усиливались. Она была убеждена, что Аболешев со свойственной ему прямотой, в случае чего, тотчас подтвердит ее обвинения, и тогда ему не останется ничего другого, как заняться оформлением развода. А развод с ним представлялся ей такой катастрофой, страшнее которой была, пожалуй, лишь смерть — ее или его, не важно. Жекки давно не разделяла себя с ним, и как ей казалось, не смотря на почти полную уверенность в его измене, Аболешев точно так же не разделял свою, и ее жизнь, и в глубине души по-прежнему был предан лишь ей одной. Так, по крайней мере, говорило ей сердце. Следовательно, всякие объяснения, демонстративные приступы ревности и тому подобные проявления справедливого негодования не только лишались смысла, но и могли добавить новые сожаления в придачу к уже существующим.
«Пусть уж все будет, как будет, а там посмотрим», — решила она. С этой мыслью она она прожила весь последний год и с ней же вошла сейчас в бывший отцовский кабинет, ставший теперь законной резиденцией Аболешева.
Павел Всеволодович полулежал перед растопленным камином в широком кресле. От камина по комнате расходилось тепло и растекался завораживающий, трепещущий, как породившее его пламя, красноватый дремотный свет. Другое освещение отсутствовало вопреки наступившим сумеркам.
Красные всплески огня четко обрисовывали чугунные завитки каминной решетки, круглый циферблат каминных часов, светлое пятно от рубашки Аболешева, плотно обложенное невидимым бархатом его домашней куртки и чуть выше — бледное тонкое лицо, обросшее темной щетиной. Из-за невыбритых щек и висков обычно тщательно подстриженная маленькая бородка Аболешева, соединенная с изящной линией усов, казалась массивнее и грубее. Тонкие прямые черты лица сделались проще, размякли и потускнели.
Растянувшись в кресле, Аболешев безотрывно смотрел на огонь. И пламя, точно уподобившись направленному на него, неумолимому взгляду, непрерывно и безжалостно поглощало текущие навстречу ему невидимые лучи.
При появлении Жекки из темного угла, как из укрытия, вышел Йоханс, держа в руках поднос с графином вина и пустыми бокалами.
— Добрый вечер, — сказал он ей, выходя из кабинета.
— Жекки? Ну, наконец-то. — Голос Аболешева прозвучал, как будто бы шел из подземелья.
— Когда ты приехал? — спросила она его, целуя и склоняясь к нему лицом.
Он притянул ее ближе к себе, так что она почувствовала сквозь блузку, скользящий атлас его куртки. Его ответный мягкий поцелуй как всегда вызвал у нее легкое помешательство.
— Около трех, кажется, — ответил он и тут же в свою очередь задал вопрос, отстраняя от нее губы. — Ты что плакала сегодня?
Жекки в который раз изумилась его способности видеть ее насквозь, способности замечать самые незначительные перемены в ее внешнем облике, улавливать отпечатавшиеся во вне малейшие колебания ее души и самые неуловимые, тончайшие внутренние движения. Так мог чувствовать и понимать лишь человек, неразрывно связанный с ней узами, более прочными, чем заурядная супружеская связь. Не отдавая себе в том отчет, Жекки принимала это как доказательство их двуединого естества, которое нельзя было разорвать никакими внешними силами. И разве не удивительно, что из всех, пережитых ею за сегодняшний день событий, он безошибочно выделил то, что произвело на нее самое тягостное впечатление?
— Да, немножко, — созналась она, — я услышала плохие новости.
— О скупке лесных участков?
— Ты тоже слышал?
— Да, в Нижеславле. — Аболешев с некоторым усилием оторвал руку, сжимавшую ее предплечье. Продолжительное физическое напряжение по-прежнему было ему в тягость. — Говорят, этим занимаются какие-то приезжие люди с большим капиталом. Скупают без оглядки, потому что казна, будто бы, со временем перекупит наш лес по любой цене.
— И что ты об этом думаешь?
Аболешев вяло откинулся на спинку кресла, запрокинул вверх голову, закрыл глаза. Ну вот, он опять хочет устраниться от этого тяжелого, но столь важного для них обоих вопроса. Если бы он не был так апатичен, так слаб, так раздавлен какой-то неведомой Жекки, ускользающей от ее сознания неодолимой тяжестью, то конечно, что-нибудь придумал. Тогда он, безусловно, помог бы ей выбраться из этого душного тупика, тогда они выбирались бы вместе. Но, глядя на его неподвижную, тонкую, фигуру с запрокинутой головой, распластанную в кресле, Жекки понимала, что рассчитывать на помощь Аболешева в таком деле, как борьба за Каюшинский лес, ей не придется. Он может все прекрасно понимать, но ничегошеньки не сможет сделать.
— Я думаю, ты напрасно надеешься одолеть этих людишек, — сказал он, медленно проговаривая слова. — Лучше не ввязывайся, Жекки.
Холодная отстраненность, возникавшая всякий раз, когда он заговаривал о людях, как всегда неприятно оцарапала слух. Было похоже, что он говорил о каких-то неприятных ему существах, на которых он может смотреть лишь со стороны, и при этом сам не имеет к ним никакого отношения. Эта его манера говорить всегда больно задевала Жекки, а подчас даже пугала, поскольку она видела, что Аболешев ни капли не притворяется, и оттого в подобных случаях его голос звучал особенно непреклонно и безжалостно.