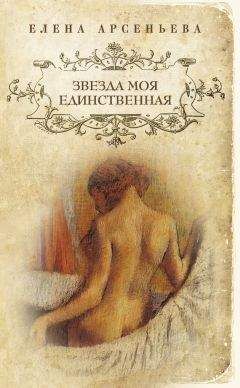Мысль о том, что он излюбленное чадо Всевышнего, накрепко угнездилась в Грининой голове после того, как он сделал своей невенчанной женой Машу и сам стал ее невенчанным мужем. Была бы Гринина воля, он бы, лишь разомкнув с нею объятия, повлек бы ее в церковь венчаться, потому что была она невинная девица, но от его любви быть таковой перестала. И разве даровал бы Господь Грине такое несказанное счастье, как эта любовь, если бы мечтал погубить его? Невозможно в такое поверить! Ведь и она, она тоже шептала ему самые немыслимые любовные слова в те минуты, когда принадлежала ему всей душой и всем телом!
Он хотел сразу сказать – иди, мол, за меня, да вовремя вспомнил, кто он есть. Крепостной… А она-то служит в самом Зимнем дворце! Если не царевна, то почти… Разве может она жизнь с крепостным связать? Ведь по закону тогда и сама волю свою утратит, в кабалу к графине Дороховой пойдет.
Ну и как можно замуж позвать?!
Пока Гриня мучился сомнениями, Маша уже подхватилась, оделась и, едва он довел ее до Невского, убежала, запретив себя провожать.
– Когда ж мы снова увидимся?! – ахнул Гриня.
– Я тебе дам знать! Найду тебя!
– Дом купца Касьянова на Гороховой, Московская часть! – едва успел крикнуть Гриня, а ее уже и след простыл. Только часы в Гостином, словно насмехаясь, пробили три, как бы обозначив наисчастливейший час его жизни.
И теперь он не мог перестать одурманивать себя воспоминаниями об этом часе…
Не мог он перестать думать о Маше! И во сне, и наяву стояла перед глазами. За минувшие два дня с жизнью несколько раз чуть не расстался – так погружался в мечты, что едва со стремянки своей штукатурской не падал. И думал в такие минуты, что жизни жаль потому лишь, что с Машей больше не повидается, если помрет. И страх охватывал небывалый: да как же такое возможно?! Нет, если не видеть ее, не целовать, не обнимать – так и в самом деле помереть лучше, разве это жизнь будет?!
Он не мог этого видеть, но на лице его попеременно менялись выражения жадной надежды, непомерного отчаяния и полного блаженства. И когда вошел он в кабинет Прохора Нилыча, им как раз овладело такое счастье, такой восторг, что глаза его сияли, а на губах играла самая блаженная улыбка.
Прохор Нилыч сидел туча тучей, а завидев радостное Гринино лицо, еще больше помрачнел:
– Смеешься надо мной, наглец? Ну-ну… смешками своими скоро подавишься!
– О чем это вы, Прохор Нилыч? – ошарашенно спросил Гриня.
– Хитер… – проскрежетал купец. – Небось и сам знаешь! Вот тебе письмо в Московскую часть. Иди поживей, да передай сверх всего, чтоб розги хорошенько вымоченные брали, чтоб всю кожу с твоей спины содрать!
Гриня вовсе опешил и растерянно вертел в руках письмо.
«Уму-разуму поучить… со всем старанием… не меньше полусотни уроков!» – мелькнули перед глазами строки, и он снова непонимающе уставился на Касьянова.
Гриня знал, что наказание нерадивых слуг петербургские господа обычно передоверяли полиции. Сплошь да рядом в ближние полицейские части ходили слуги с записками от своих хозяев, в которых заключались просьбы поучить провинившихся уму-разуму, то есть высечь. Как правило, указывалось и требуемое количество плетей – в зависимости от тяжести вины. За что ж так рассерчал Прохор Нилыч, что почти к смерти Гриню приговорил? Да мыслимое ли дело – пятьдесят плетей вынести и живым остаться?!
– За что? – пробормотал Гриня.
– Сам знаешь, ворюга, – с ненавистью ответил Прохор Нилыч. – И не вздумай мне сказать, что я над тобой прав не имею. Коли послала тебя графиня ко мне в службу, значит, я над тобой властен в животе и в смерти. А подохнешь под плетями, я уплачу выкуп ее сиятельству, как уплатил бы, коли собачонку ее невзначай задавил или посевы потравил. Это ж надо! – с размаху обрушил он на стол изрядный свой кулак, да угодил в чернильницу. Лиловые брызги так и полетели в стороны, отчего Прохор Нилыч еще пуще озлился. – Сын друга моего! Сын моего дорогого друга! – заорал он. – А я еще думал, может, послушаться дочку, может, сделать ее счастие… может, возвысить его, как жена моя покойница возвысила меня некогда?! А он… ворюга, грязный ворюга! Бери письмо! Иди в часть!
От крика этого аж засвистело у Грини в ушах, и он вовсе перестал что-либо понимать. Но старался страха своего не показывать.
– Никуда я не пойду и ничего никуда не понесу, пока не скажете, в чем вы меня виноватите, – молвил твердо. – Мне каяться не в чем, я перед вами чист, как стеклышко.
– А стеклышко-то закопченное! – ехидно сказал Прохор Нилыч. – Не ты ли у меня в лавке товарец попятил, а?! Не отпирайся, сам Петька тебя видел! Он за нужным делом отлучился, а воротился, видит – ты с какой-то девкой деру даешь. А в сундуках-то… – Он с лютым выражением уставился на Гриню. – Ну?! Говори?! Кто эта девка была?! Кому ты добро мое отдал?!
Из-за стенки донесся вдруг громкий плач Палашеньки, и Гриня наконец-то смекнул, что разъярила Прохора Нилыча не столько тайная покупка, им совершенная в гостинодворской лавке, сколько то, что тут замешана какая-то «девка». Степаныч и задушевная подруга его, кухарка Савельевна, не раз намекали ему на то, что барышня к нему дышит неровно, а он, видать, слепой слепец, коли не видит красоты ее, и глупый глупец, что не стелется ей под ноги, словно половичок. Вот счастья огреб бы! А Гриня видел в Палашеньке лишь милую сестру – не более того. Но сейчас он понял, что если хочет оправдаться от нелепых обвинений, если хочет утихомирить Прохора Нилыча и утешить Палашенькино горе, нужно отвести подозрения и от себя, и от Маши.
Значит, Петька сказал, что видел, как они уходили… Наверняка он не видел, что между ними там, в лавке, произошло, иначе, конечно, не смолчал бы.
Ну что ж, значит, надо врать и не сбиваться!
– Я эту девушку первый раз повстречал, – сказал он, угрюмо опуская глаза. – Возле балаганов на Сенной площади через костры прыгали, она прыгнула, да юбка на ней полымем занялась, кофта тоже полыхнула. Кое-как пламя сбили, диво, что сама девушка не обгорела! Как стала она плакать, как стала причитать, мол, барыня ее прибьет… Жалко мне ее стало, я говорю, пойдем, я тебе новую одежду куплю. Пока шли, вспомнил, что в карманах пусто, все деньги, какие брал с собой, уже потратил на развлечения. А мы как раз возле лавки были. Я решил, что попрошу у Петьки для нее одежду, а с платой уговорю, чтоб до вечера подождал. Думал, домой сбегаю, деньги возьму, вернусь и уплачу. Ну очень жалко мне ее было, бедняжку… Небось за обгорелую одежду хозяйка бы ее сразу в часть с запиской наладила! – ядовито добавил он, но, на миг вскинув глаза, встретил такой яростный взгляд Прохора Нилыча, что на будущее положил себе с шутками быть осторожнее. – Пришли, значит, мы на Малую Сурожскую, в лавку вашу, а там двери отперты – и никого нету. Ждали мы, ждали… Петьки нет, а девушке домой пора. Ну, открыл я ей сундуки… Выбрала она кофту и юбку, переоделась, проводил я ее до Невского – она и убежала. А я домой воротился, взял деньги… мы еще со Степанычем в сенях столкнулись, он меня спросил, что это только пришел да снова ухожу…