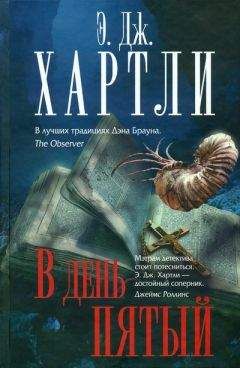Он ничего не говорил Бруно. Он не хотел расстраивать своего мальчика. Тот так привязался к нему, так мучился, много дней ожидая, когда любовь Констана поглотит его с головой. Лексен так горяч и так страстен. Дюмель не будет его разочаровывать, отбирая у него то, что он любит — его самого, Констана. Он видит и чувствует, что Бруно полон сил, здоров и крепок, что его ни разу за время их знакомства не сломила какая-то болезнь. И если уж станет совсем невыносимо, он признается Лексену во всем. Дюмель был счастлив, что Бруно здоров. Несмотря на трагичный эпизод в своей жизни, связанный с отчимом, юноша, казалось, по счастью избежал заражения, что могло негативно сказаться на его мужском здоровье. Ведь Лексен ни разу не пожаловался Констану на плохое самочувствие. А может, он и врал ему порой, и мысли о том, что он не увидится с Дюмелем из-за болезни, заставляли его обманывать? Об этом Констан не узнает. Бруно далеко. Он не пишет ему. Но помнит. Как и Дюмель. Помнит чувственные объятия, объединяющие и связывающие обоих. Жаркие поцелуи требовательных горячих губ, что никак не утолят жажду и настаивают на новом глотке любви. Сильные руки, обвивающие пылающего желанием любимого. Ладони, познающие каждую клеточку взбудораженного тела. Волосы, разметавшиеся по матрасу и блестевшие в свете уличного фонаря.
Констан часто вспоминал один эпизод, одну из проведенных вместе с Лексеном первых волшебных ночей. Был сентябрь, как раз два года тому назад, оба укрывались под широким теплым одеялом, согревая друг друга своей близостью. Бруно лежал, прижавшись к Дюмелю и обнимая. Одной рукой он нежно ласкал его живот и талию, а голова покоилась на груди. Он невесомо касался ее любящими губами: одаривал легчайшими поцелуями, покусывал кожу, щекоча нос его темно-русой растительностью на теле. Констан лежал, глядя в окно на ночное холодное небо, и обнимал Лексена.
— Расскажи, как у тебя было в первый раз, до меня? — вдруг прошептал Бруно, уткнувшись Дюмелю в грудь. Он еще никогда не спрашивал о прошлом опыте, оба наслаждались лишь настоящим — друг другом, привыкая и познавая. Констан вздохнул и положил одну ладонь себе под голову. Лексен чуть отодвинулся и, положив голову на его согнутую руку, обратил на него внимательный взгляд.
— Я был чуть младше тебя. Я любил своего друга, — произнес Дюмель. — Как единомышленника. Как последователя христианства. Как человека, полного веры, силы веры. Я думаю, он тоже любил меня. Иначе мы так не поступили бы вместе с ним. Мы были друзьями детства и учились в одной школе, когда это случилось.
— А с женщинами у тебя случалось? — тут же спросил Лексен, когда Констан замолчал.
— Да. Да, было. Тогда же, в тот же день. И больше ни разу.
— Но почему ты выбрал?.. — Бруно замялся, не зная, какие слова подобрать, но Дюмель понял его.
— Союз мужчины и женщины, их любовь, несомненно, важны: благодаря мужскому семени женщина разрождается новой жизнью, — осторожно начал Констан, — но понимаешь… Мужчина, женщина — это лишь земные оболочки. Душа вечна, она бестелесна, она без пола и рода. Она — сама жизнь. Я принимаю библейские заветы душой — но разумом… Душа, чистая, безгреховная, вручается Богом внешнему тленному образу, тому идеальному, что создал Христос. Но чувства заложены в душе: вся любовь, вся привязанность к другой душе, не к человеку, не к оболочке — к душе. Я выбирал себе по жизни друзей, знакомых — тех, кто часто будет со мной рядом — по состоянию их душ, внутренней природе. Я, конечно же, люблю паству, люблю своих родных и соседей, люблю парижан. Но родная, близкая мне душа — это ты.
Дюмель повернул голову, глядя на Лексена и, высвободив из-под головы руку, ласково дотронулся до его лица.
— Почему? Я ведь не особенный. Я обычный. И не верующий. Без роду, без племени… — Промычал Бруно.
— Не говори так, не говори, — прошептал Дюмель, помотав головой и поглаживая его бородку. — Если считаешь, что ты не особенный, то посмотри, насколько особенным ты делаешь мир вокруг. Мой мир в частности.
Он улыбнулся. Лексен некоторое время еще смотрел в глаза Констану, а тот следил за его густыми черными ресницами, порхающими над искрящимися, глубокими серо-зелеными глазами.
— Почему же ты выбрал такой, свой, путь, Пьер? — прошептал Дюмель после нескольких секунд молчания.
Бруно сжал губы, отвернул лицо и лег рядом с ним, глядя в потолок и сложив руки поверх одеяла вдоль тела.
— Я боюсь причинить боль. — Произнес наконец он и мотнул головой. — Я был окружен людьми, что причинили мне страдание. И эти мужчины, знакомые мне, причиняли боль женщинам, которых я знал. Я рос в их окружении, в их среде. И я не хотел стать таким, как эти мальчики и мужчины, не хотел доводить женщин до слез. По-настоящему из всех женщин мира я люблю лишь одну — маму. Боль стерпит мужчина, женщина же всегда расплачется. Поэтому я искал, долго и безуспешно, того, что научит меня стерпеть боль, избежать ее, показать мужественность и мужество перед болью. И, мне кажется, что теперь нашел.
Лексен чуть сдвинул ладонь и, дотронувшись рукой до пальцев Констана, сжал их, не поворачиваясь к нему лицом. Дюмель прижался своим лбом к виску Бруно, закрыл глаза и вдохнул аромат его темных волос.
Оба ни разу не предохранялись, об этом даже не стоял вопрос. Зачем? У Дюмеля есть Бруно. У Бруно есть Дюмель. Каждый встретил своего любимого. Каждый уверен в нем. Какой в том грех, что ты чувствуешь дорого человека силой своей любви, желанием своего тела, нагого тела, созданного Богом и врученного живой душе для того, чтобы распространять на земле любовь? Никто и ничто не может и не должно препятствовать телесному влечению двух любящих и доверяющих друг другу людей. Констан и Лексен любили друг друга до безумия. Сердце одного было вручено другому. Овладев сердцем, каждый овладел и телом. Неистовость и порывистость движений; предельная натянутость чувств, готовых разорваться и высвободиться; приносящие восторг слияния тел… Дюмель первое время не верил, что их такая «беззащитная» любовь могла стать опасной и довести до плохого.
Но могло ли только это быть причиной? Констан ничего подробно не знал о болезнях, что могли бы передаваться половым путем, хотя проблема сифилиса была на слуху уже много лет и он о ней слышал. Но не думал, не подозревал, что сам когда-то столкнется с подобным. И тем не менее, симптомы, вызывающее его плохое самочувствие, были схожи с симптомами таких болезней, о которых ему пришлось узнать. Впервые по-настоящему беспокоясь о своем здоровье, Констан решился посетить врача.
Удалось с трудом. Больницы перестали получать былое финансирование и беднели, некоторые оказались не в состоянии обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами, принимать большое количество посетителей, закупаться медицинским оборудованием и проводить хирургические вмешательства. Много врачей отбыло на фронт еще с прошлой осени. Кто-то, недолго повоевав, уже успел вернуться инвалидом и восстановиться в больнице на свою должность, если позволяла специфика медицинской деятельности. Несмотря на сложности безрадостного положения Парижа, Констан через неделю после обращения с запросом на посещение попал на прием. И был поражен, столкнувшись в кабинете врача с человеком, которого давно знал и давно не видел.
Дюмель увидел стол, за которым, спиной к окну и лицом к входящему, сидел мужчина. Врач что-то черкнул в тетрадке и поднял голову. Он был молод, но неаккуратная, уже местами посеребренная борода, морщины и усталые глаза на загорелом лице прибавляли ему полтора десятка лет. Тем не менее Констан узнал его. За потухшим взором он разглядел, увидел пышущего жизненной энергией юношу, с которым провел лучшие годы своего детства и отрочества.
Луи.
Оба молча смотрели друг другу в глаза. Оба узнали друг друга. Луи качнулся на стуле и медленно встал. С каждым мгновением в груди обоих сердце билось всё стремительнее, подступал жар.
— Боже правый… — неслышно произнес Луи почти одними губами.
Не сводя с Дюмеля глаз, он обошел стол. Констан заметил, что он немного подволакивает левую ногу. Когда Луи достиг его и встал напротив, так что их дыхание обжигало обоим губы, Дюмель поймал вспышку в его глазах. Да, вот они, эти огоньки, эти маленькие салюты! Они горят так же, как почти семь лет назад, в тот вечер…