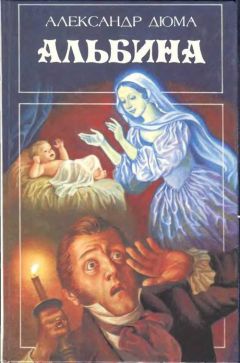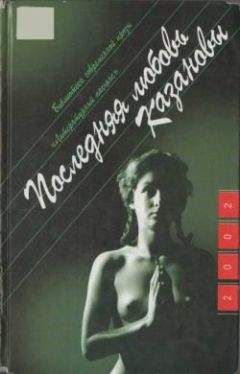— Вы ранены? — сказал он, делая шаг вперед.
— Ничего, — продолжал я, взяв пистолет в левую руку. — Теперь моя очередь. Граф бросил разряженный пистолет, взял другой и стал опять на место.
Я целился медленно и холодно, потом выстрелил. Сначала я думал, что дал промах, потому что граф стоял неподвижно и даже начал поднимать второй пистолет; но прежде, нежели дуло пришло в горизонтальное положение, судорожная дрожь овладела им; он выронил оружие, хотел говорить, но кровь залила ему горло, и он упал мертвым: пуля прострелила ему сердце.
Секунданты подошли сначала к графу, потом ко мне. Между ними был хирург; я просил оказать помощь моему противнику, которого считал только раненым.
— Это бесполезно, — отвечал он, качая головой, — теперь ему не нужна ничья помощь.
— Исполнил ли я все обязанности чести, господа? — спросил я у них.
Они поклонились в знак согласия.
— В таком случае, доктор, я попрошу вас, — сказал я, снимая с себя верхнее платье, — перевязать чем-нибудь мою царапину, чтобы остановить кровь, потому что я еду сию же минуту.
— Кстати, — сказал мне старший из офицеров, когда хирург окончил свою перевязку, — куда должно отнести тело вашего друга?
— В улицу Бурбонов, № 16, — отвечал я, улыбаясь против волн простодушию этого храброго человека, — в дом господина Безеваля.
При этих словах я вскочил на свою лошадь, которую одни гусар держал в руках с лошадью графа, и, поблагодарив в последний раз этих господ за их доброе и законное присутствие, простился и поскакал по дороге в Париж.
Я приехал вовремя; мать моя была в отчаянии: не видя меня с завтрака, она вошла в мою комнату и в одном ящике бюро нашла письмо, которое я написал к ней.
Я вырвал его из ее рук и бросил в огонь с другим, адресованным Полине; потом обнял ее, как обнимают мать, которую оставляют, не зная, когда с нею увидятся, и с которой расстаются, может быть, навсегда.
Через восемь дней после сцены, рассказанной мною, продолжал Альфред, мы сидели в нашем маленьком домике в Пиккадилли и завтракали за чайным столом один против другого. Вдруг Полина, читавшая английскую газету, ужасно побледнела, выронила ее из рук, вскрикнула и упала без чувств. Я звонил изо всех сил, горничные сбежались; мы перенесли Полину в спальню, и, пока ее раздевали, я вышел, чтобы послать за доктором, и, заглянув в газету, понял причину ее обморока. Мой взгляд упал на эти строки:
«Сейчас мы получили странные и таинственные подробности о дуэли, происходившей в Версале и имевшей причиною, как кажется, неизвестные побуждения ужасной ненависти.
Третьего дня, 5 августа 1833 года, двое молодых людей, по-видимому, принадлежащих к парижской аристократии, приехали в наш город каждый со своей стороны верхом и без слуги. Один отправился в казармы, стоящие в Королевской улице, другой в кофейню Регентства, там просили они двух офицеров сопровождать их на место дуэли. Каждый из соперников привез с собой оружие. Окончив условия поединка, противники выстрелили один по другому, на расстоянии двадцати шагов; один из них был убит, другой, имени которого не знают, уехал в ту же минуту в Париж, несмотря на значительную рану, полученную им в плечо.
Убитый — граф Безеваль. Его противник неизвестен».
Полина прочла эту новость, и она произвела на нее тем большее действие, что я не принял никаких приготовительных мер. С самого возвращения своего я ни разу не произносил при ней имени ее мужа, хотя чувствовал необходимость открыть ей когда-нибудь случай, сделавший ее свободной, не объясняя, однако ж, кто был тому причиной; но еще не решился, каким образом исполнить это.
В эту минуту вошел доктор, я сказал ему, что сильное волнение привело Полину к новому припадку. Мы вошли вместе в ее комнату; больная была еще без чувств, несмотря на воду, которой вспрыскивали ей лицо, и соли, которые давали ей нюхать. Доктор говорил о кровопускании и начал делать приготовления к этой операции; тогда вся твердость моя исчезла: я задрожал, как женщина, и бросился в сад.
Там я провел около получаса, склонив голову на руки, раздираемый тысячами мыслей, бродивших в уме моем. Во всем прошедшем я действовал из двойного интереса — ненависти моей к графу и дружбы к сестре; я проклинал этого человека с того самого дня, когда он похитил все мое счастье, женившись на Полине, и потребность личного мщения, желание отплатить физическим злом за мучения моральные заставили меня выйти из себя против воли. Я хотел только убить или быть убитым. Теперь, когда все уже кончилось, я начинал видеть последствия.
Меня ударили по плечу: это был доктор.
— А Полина? — вскричал я, сложив руки.
— Она пришла в чувство…
Я встал, чтобы бежать к ней; доктор остановил меня.
— Послушайте, — продолжал он, — теперешний случай очень важен для нее; она имеет нужду в покое… Не входите к ней в эту минуту.
— Почему же? — сказал я.
— Потому что ее надобно предохранить от всякого сильного волнения. Я никогда не спрашивал вас об отношениях ваших к ней, не требую от вас доверенности; вы называете ее сестрой: правда ли, что вы брат ей, или нет? Это не относится ко мне, как человеку; но очень относится, как к доктору. Ваше присутствие, даже ваш голос имеют над Полиной видимое влияние… Я всегда замечал это, и даже сейчас, когда держал ее руку, одно произнесение вашего имени чувствительно ускорило биение ее пульса. Я велел никого не впускать к ней сегодня, кроме меня и служанок; не пренебрегайте ж моим приказанием.
— Она в опасности? — вскричал я.
— Все опасно для такого расстроенного организма, как ее; если бы мог, я дал бы этой женщине питье, которое бы заставило ее забыть прошедшее. Ее мучит какое-то воспоминание, какая-то горесть, какое-то угрызение.
— Да, да, — отвечал я, — ничто от вас не скрылось, вы увидели все глазами науки. Нет, это не сестра моя, не жена, не любовница; это ангельское создание, которое я люблю выше всего, но которому не могу возвратить счастья, и оно умрет на руках моих с непорочным и мученическим венком!.. Я сделаю все, что вы хотите, доктор; я не буду входить к ней до тех пор, пока не позволите, я буду повиноваться вам как ребенок; но скоро ли вы возвратитесь?
— Сегодня…
— А я что буду делать, Боже мой?
— Ободритесь, будьте мужчиной!
— Если бы вы знали, как я люблю ее!
Доктор пожал мне руку; я проводил его до ворот и там остановился, не думая двинуться с места; потом, выйдя из этого бесчувствия, машинально взошел по лестнице, подошел к ее двери и, не смея войти, слушал. Мне показалось сначала, что Полина спит, но вскоре какие-то приглушенные рыдания достигли моего слуха; я положил руку на замок, но, вспомнив свое обещание и боясь изменить ему, бросился из дому, впрыгнул в первую попавшуюся мне карету и приказал везти себя в Королевский парк.