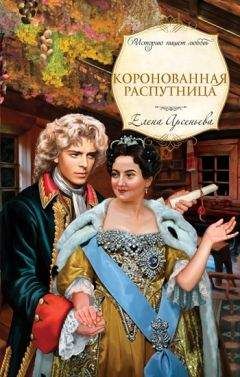Под прикрытием вдовы Монс эта связь продолжалась в полной тайне от всех. Меркурием, вернее Иридой, для любовников была маленькая служаночка и приемыш Анхен Розмари. Именно под ее передничком, в скромно сложенных ручонках, бывали зажаты исполненные сердечного трепета послания Анхен и Кенигсека.
Порой она попадалась на глаза государю, но ее фарфоровое, точеное, очень хорошенькое, хотя и довольно-таки бесцветное личико ничего не выражало, кроме превеликого почтения к нему, хотя, скажем честно, руки у нее под передничком начинали нервически сжиматься и разжиматься, тиская письма, так что хруст стоял. И это просто диво, что Петр не слышал… Впрочем, он все больше становился туговат на ухо, оттого и говорил так громко. Словом, он ни о чем не подозревал и пособницу изменников в маленькой девочке не видел.
Впрочем, он и ее едва ли замечал.
Итак, преступные любовники пользовались полной безнаказанностью. Петр раз или два встречал Кенигсека в доме Анхен, однако ему и в голову не могло взбрести, что прекрасную даму привлекает в саксонском посланнике нечто большее, чем возможность поболтать об обычаях иноземных дворов и новых фасонах платьев. В государевой постели Анхен искусно изображала прежнюю любовь, и на нее сыпались новые подарки, в числе которых было и село Дудино в Козельском уезде – сто девяносто пять дворов со всеми угодьями!
Неведомо, сколько протянулась бы эта история, не отправься Кенигсек вместе с Петром на осаду Шлиссельбурга…
Приехав проститься, посланник сообщил Анхен, что привез к ней все ее письма и желает на время поездки оставить их у нее, потому что боится какой-нибудь случайности. Анхен растерялась. Она очень боялась потерять Кенигсека, а потому ревновала его страшно и вообще во всякой малости видела угрозу своему счастью. И тут такие слова… Она восприняла это как нежелание Кенигсека мысленно общаться с ней в разлуке. Анхен была редкостно сентиментальна, а оттого полагала, что, отлучаясь от нее, любовник должен постоянно подносить ее письма к губам, то и дело украдкой перечитывать, громко вздыхать и не вынимать руки из-за пазухи, куда был запрятан пакет с ее посланиями. В свою очередь, Анхен брала на себя обязательства проделывать то же самое с его письмами.
И вот на тебе! Он их вообще не берет!
На беду, посланник затеял сей разговор не наедине. При сем присутствовали вдова Монс и Розмари.
Матушка Монс даже головы не подняла, как всегда, сидела, уткнувшись в какое-то штопанье: насколько Розмари была искусна в плетении кружев, настолько фрау Монс была искусна в штопке, оттого ее в досужую минуту непременно можно было увидать с каким-нибудь чулком, натянутым на деревянный грибок, и штопальной иголкою в руках. Однако замершая в уголке Розмари вдруг затревожилась и послала Анхен печальный взгляд. Значит, и она почуяла здесь что-то неладное!
Анхен мигом залилась слезами, Кенигсек начал ее утешать… По легкому знаку лилейной ручки кукуйской царицы ее мать и воспитанница выскочили вон из комнаты… Влюбленные теперь были заняты только друг другом, а когда Кенигсек простился с милой и отправился в путь, во внутреннем кармане его камзола лежали и письма Анхен, обернутые тончайшим шелковым платком, и пресловутый портрет.
Анхен блаженно улыбалась, глядя вслед любовнику… Розмари смотрела на нее одобрительно…
А спустя несколько дней при Шлиссельбурге произошла интересная история.
– Алексашка, мил-друг, – спросил как-то Петр в хорошую минуту, – что это ты с нашего приятеля Кенигсека глаз не сводишь? Чего так подозрительно на него глядишь?
– Да вот думаю, есть у него вши или нет, – хохотнул в ответ Алексашка.
Петр аж подпрыгнул: все знали, что он был редкостно брезглив, отличался отменной чистоплотностью, обожал мыться, скромную одежонку свою приказывал содержать в чистоте, а всем видам роскошеств предпочитал дорогое и тонкое голландское белье, в котором, как всем известно, вши не заводятся. По той же причине – ненависти к насекомым – Петр бросил носить парики и довольно коротко стриг свои черные буйные волосы.
– С чего ты взял? – подозрительно поглядел он на Меншикова.
– Да ты погляди! – перешел на шепоток Алексашка. – Он все время руку за пазухой держит. Небось, чешется.
Петр словно невзначай глянул на посланника. И впрямь… Рука за пазухой, и взгляд какой-то вороватый…
– А может, у него там не вошки, а шпионские донесения? – вдруг сказал Алексашка.
Петр нахмурился. В самом деле – последнее время у них с Алексашкой возникали смутные подозрения, что Кенигсек заодно кормится и со шведского стола, а потому нарочно препятствует переписке самого Петра и короля польского, курфюрста саксонского Августа. Петр не знал, что хуже… Он немедля вскочил и двинулся к Кенигсеку. Тот нервически вскочил с расстеленного на земле плаща и зашагал в сторону, словно спешил за нужным делом. Однако рука его воровато шмыгнула под камзол.
– Постой-ка, господин саксонец, – негромко окликнул Петр, однако Кенигсек, словно по-прежнему не слышал, ступил на бревно, перекинутое через малый овражек, по дну которого бежал ручей.
– Вот же зараза! Будто не слышит! – крикнул Петр во весь свой возмущенный голос, а голос его никогда не был тихим… Этот голос словно ткнул Кенигсека в спину: он покачнулся – и свалился в овражек.
Петр захохотал – к нему мигом вернулось хорошее настроение. Он вообразил, в каком жалком виде сейчас вылезет из ручья всегда щеголеватый саксонец – ну сущая мокрая курица будет! Государь даже забыл и про вшей, и про шпионские донесения.
Время шло, однако Кенигсек не спешил вылезать из ручья.
– А ну, поглядите, что там с ним, – махнул Петр своему денщику Суворову.
Тот побежал к овражку – да так и замер над ним с озадаченным видом.
Петр и Алексашка переглянулись, чуя неладное, подошли и увидали Кенигсека, который лежал в ручье, неестественно вывернув шею.
Его вытащили.
Кенигсек был мертв. Утонул… Сломал при падении шею, вот что вышло.
Петр после первой растерянности мигом пришел в себя и приказал все же обшарить карманы посланника.
Спустя миг он понял, что не зря надеялся найти в карманах утопшего какие-то секретные письма. Однако ни к королю Августу, ни к заносчивым шведам эти письма не имели никакого отношения, поскольку были писаны не кем иным, как… Анной Монс, Анхен, Аннушкой, и писаны к Кенигсеку!
Вдобавок в кармане находился ее портрет-миниатюра, усыпанный драгоценностями, и вот именно при взгляде на это тщательно вырисованное красивое, свеженькое, хотя, может быть, и чуточку жестковатое лицо Алексашка едва сдержал так и рвущиеся с языка слова: «Ну и дуры же вы, бабы! А уж влюбленные бабы – тем паче! Кого ж ты на кого поменяла, Аннушка? И какого, скажи на милость, тебе надобно было рожна?!»