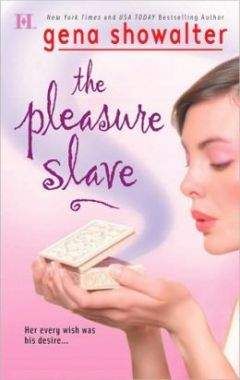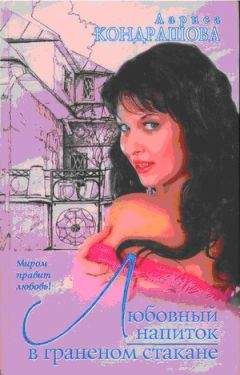– Трофимушка, а как дела у Кости? – и опять оглянулся.
– Откуда мне знать? – удивился Трофим.
– Да брось! – флейтист придвинул свою тумбу ближе к нему, – кто поверит? Не бойся, я никому... Неужели забыл Костя старого друга? Не такой он человек!
– Почему ж забыл? – сказал Трофим, – Ну не пишет он писем и я не люблю писать. Не знаю.
– С собой звал?
– Нет.
Флейтист не верил.
– И ты раньше не знал что Костя, ну... того... собирается?
– Знал. Ну и что?
– Да ничего, ничего, – тот заторопился. – Ты не думай, я просто так спросил. Не хочешь говорить – не говори.
– Да нечего мне говорить, – сказал Трофим, уже пожалев, что ввязался в разговор. – Нечего. Ну, пошёл я к дирижёру.
Акробатов на манеже сменила группа шимпанзе.
Дирижёр Трофиму обрадовался. Как известно, цирк, искусство коллективное. Подобно театру или, скажем, кинематографу. А в коллективном искусстве каждый считает главной свою часть. Поговорите с кинооператором. «Кино есть композиция плюс экспозиция» – скажет он. – Он снял гениальные кадры, но тупица – более решительные определения мы, как и в футболе, опускаем! – тупица режиссёр на монтаже поставил их не в ударное место, а некоторые просто выбросил! И тем убил картину. Да, убил! Перейдите к сценаристу. Он предупреждал! «Снимайте точно по сценарию и призовые места на фестивалях наши! Но тот же режиссёр, приплёл свою дурацкую фантазию, а оператор вообще не читал сценария. Да, да, не читал! Сомнительно вообще, умеет ли он читать бегло. ВГИК закончил? Ещё неизвестно чему их там учат. А картина загублена. Да, загублена!» Театр: «Современный спектакль это прежде всего режиссура», – заявляют одни. «Во все века сами играли и теперь сыграем» – отвечают другие. «Играть-то, что собираетесь?» – ехидничают третьи. И, наконец, критики уверены, что конечное назначение искусства быть материалом для анализа. Режиссёры же, операторы, сценаристы, драматурги и прочие «художники» – зло. К сожалению, неизбежное.
Дирижёр не был исключением. Главной частью представления он считал музыку, мотивируя своё мнение тем, что музыку слушают и без всего остального. И обещал поговорить с директором сразу, как только тот появится. То есть, завтра утром.
Трофим шёл по коридору, соображая, что делать дальше и заглядывал в знакомые помещения. Слоновник был забит клетками плотно, одна к другой. Слонов теперь было целое семейство и тут же группа собак. В углу, где когда-то жила Офелия, зевала львиная морда. У выхода остановился, раздумывая. Идти некуда. Почесал в затылке. Промурлыкал костину песенку:
Тик-так, так-тик, мы пойдём с тобой в бутик.
Так-тик, тик-так, купим шмоток на пятак...
– Если не ошибаюсь, вас зовут Трофим? – между клетками стоял, поглаживая мефистофельский нос, и беседовал с незнакомым Трофиму артистом, ветеринарный доцент, муж и отец, пурист и просветитель Глеб Алексеевич Решкин. – Здравствуйте, молодой человек!
– Здравствуйте, профессор, – ответил Трофим, повышая Решкина в чине. Он знал, что Решкин не профессор, но обращение «здравствуйте, доцент», казалось ему странным.
– Я не профессор, я просто Глеб Алексеевич, – Решкин улыбнулся. – А вы тот самый костин приятель что так... м-м-м... неудачно съездил в отпуск? Да? – он всё знал прекрасно и говорил длинно только по привычке. Трофим кивнул.
– Если вы не слишком торопитесь в бутик, то минуты через три мы побеседуем, – он кивнул на артиста. – Ровно через три. А?
Трофим был готов ждать дольше. Решкин повернулся к собеседнику.
– Ошибка в том, – сказал он, – что, получив дурацкое распоряжение, ты его выполнил не буквально.
– Я же сделал лучше!
– Убеди в этом дурака! Он понял только, что сделано не по его указанию. Выполнять лучше можно умное распоряжение. А самое умное можешь и не выполнить, если отпала надобность. Дурацкий приказ выполняется буквально! Нервы береги.
– Ты свои бережёшь?
Решкин почесал нос вместо того, чтобы погладить.
– Нет, – признался он, вздохнув. – И через то имею неприятностей, как говорят в твоей родной в Одессе.
– В Одессе уже так не говорят. А может, и раньше не говорили, – улыбнулся артист, попрощался и ушёл. Решкин повернулся к Трофиму.
– И очень жаль, – сказал он. – Жаль, что не говорят. Конечно, Одесса это уже не Одесса. Но Одесса же ещё не Конотоп! – он посерьёзнел и уже на Трофима не смотрел, а внимательно его осматривал. Сначала ноги – долго, потом палку мельком, потом упёрся в глаза сосредоточенно, и как будто даже отрешённо. «Как на Офелию смотрит, – подумал Трофим.– Сейчас ощупает живот и заговорит о футболе». Вместо этого Решкин спросил:
– Ну и... как?
– Как вы себя чувствуете? И что теперь собираетесь делать? Опять работать в цирке?
– Собираюсь. Только начальство уже скрылось из виду. Вы про Костю что-нибудь знаете?
– Гм-м... – сказал Решкин. – Знаем? Ну, можно сказать, что и знаем. Я вам покажу его письмо. – Трофим не понял: издали покажет, что ли? Но спросить постеснялся и Глеб Алексеевич продолжил: – Что ж, однако, здесь разговаривать. Поехали к нам, а? Там и заночуете. Костя научил вас пить чай?
– Ещё бы!
– А мы переучим. Костя, между нами говоря, ничего не понимает в чае. Ни-че-го! Чай не должен быть горьким, молодой человек, запомните это на всю жизнь! Да! Хорошо?
Трофим обрадовался. Деваться ему было решительно некуда. Он тоже улыбнулся.
– Хорошо.
2.
Кухня была маленькая, и Трофим примостился на табурете у самой двери. Несложное дело заварить чай, но Глеб Алексеевич вдруг стал очень серьёзен. Сполоснув большой медный чайник, залил его свежей водой. Поставил на газ, скрестил руки на груди, как Пушкин на парадном портрете и замолк. Чайник закипел, и Глеб взял другой пузатый фарфоровый с красным петухом. Налил кипятку и покачал, проверяя бока ладонью: равномерно ли нагрелись? Кипяток вылил и взял с полки зеленоватую лабораторную склянку, закупоренную притёртой пробкой. Накладывал чай ложечкой, тихо считая: – «две, четыре, семь». – После девятой залил свежего кипятку и укутал чайник полотенцем. Склянку снова закрыл – тщательно, будто там не чай, а опасный яд. Привыкнув к точной работе ещё и требующей осторожности – лекарства бывают всякие, да и больной тигр всё равно тигр, а не котёнок! – Глеб заваривал чай, будто не на кухне, а в лаборатории. Стоят штативы с пробирками, гудят насосы, дрожат стрелки приборов. Учёные люди сосредоточенно молчат, занятые ходом эксперимента.
– Четыре с половиной минуты и чай готов, – объявил Решкин.
– А Костя настаивал на пару чтоб крепче был.