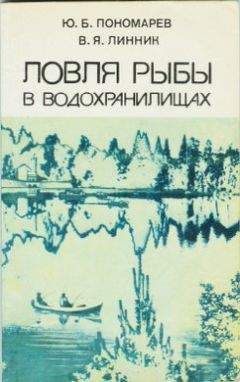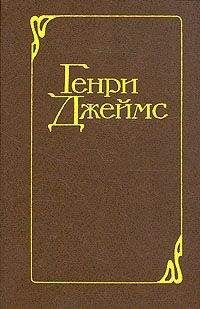— Я сделал это ради народа и во славу Божию, — твердил он как заклинание.
Суд над Дамьеном проходил в Высшей Палате парламента. Дамьен держался на суде с достоинством. Он искренне уверял своих судей в том, что не испытывает к королю враждебных чувств, что хотел лишь выразить свой протест против распущенности короля и против тяжких условий, в которых живет простой народ.
Дамьена приговорили к самой мучительной смерти, какую только сумели придумать для него судьи. К четвертованию на Гревской площади.
***
Десять тысяч человек столпились на улицах Парижа, чтобы увидеть казнь Дамьена. Люди стояли на крышах, выглядывали из каждого окна, взбирались на возвышения...
Сюда, на Гревскую площадь, привезли из тюрьмы Дамьена, чтобы подвергнуть его пыткам и варварской казни, но сначала дать ему увидеть приготовления к ней.
Полчаса на глазах у смертника разводили огонь, готовили лошадей, которым предстояло разорвать его тело на части, устанавливали скамью...
Толпа ждала, охваченная пугливым любопытством, незримо содрогаясь и словно затаив дыхание в предвкушении жуткого зрелища. Такой приговор никого не удивил бы во времена Генриха Четвертого, когда вот так же пытали и казнили Равальяка за то, что он убил короля. Но теперь люди стали более чувствительными, более цивилизованными, и для многих происходившее на площади было тяжелым испытанием. Дамьен застонал, когда в его тело впились раскаленные докрасна щипцы. Эта пытка длилась целый час, и в раны одна за другой медленно срывались капли расплавленного свинца, доводя до предела страдания жертвы и затягивая их.
Почти уже мертвого Дамьена приковали железными кольцами к скамье, где должно было совершиться четвертование. К его рукам и ногам привязали канаты, которые лошади потянули в противоположных направлениях.
Но лошади так и не довели дела до конца. Палач, внезапно преисполнившись сочувствия к своей жертве, отрубил судорожно дергающуюся руку от истерзанного тела, которое тут же поглотило пламя.
Это было невыносимое зрелище, и толпа притихла от леденящего кровь ужаса. Слышен был лишь чей-то одинокий голос. Невероятно, говорил кто-то, что такое варварство происходит в 1757 году.
Король категорически отказался выслушать сообщение о совершившейся казни. Это была одна из тех неприятных тем, которых он всегда стремился избегать.
Когда же королю рассказали, что какая-то женщина, надеясь угодить ему, расположилась вблизи места казни и разглядывала все до мельчайших подробностей, он закрыл лицо руками и воскликнул: «Мерзкая тварь!»
***
Так закончилось «дело Дамьена».
Когда толпа почти уже рассеялась, какой-то экипаж, грохоча, пронесся по улицам Парижа. В нем сидела мертвенно-бледная от страха девушка и рядом с ней какая-то женщина.
Это мадам Бертран увозила в дом для умалишенных Луи-зон, которой не суждено было никогда больше увидеть Олений парк и своего возлюбленного, о котором она узнала, что он король Франции.
Война складывалась для Франции неудачно. Французские солдаты славились как лучшие в мире, но вот те, кто командовал ими, увы, подобной славой похвалиться не могли. Дело в том, что многие военачальники оказались назначенными на свои высокие посты не потому, что были достойны их, а потому, что их назначение было приятно одной очаровательной особе в Париже.
Франция нуждалась в том, чтобы ее делами управлял сильный мужчина, а управляла страной женщина. Она была умна и очаровательна, обладала высокой культурой и артистизмом. Никто не ставил под сомнение ее достоинств. Однако на важные государственные дела она смотрела лишь с версальской колокольни. Ее цель состояла не в укреплении положения Франции среди европейских держав, а в упрочении своей собственной позиции в глазах короля. Более того, она абсолютно не способна была понять стратегию, необходимую в напряженных дипломатических отношениях с другими странами.
Ее друзья жаждали почестей. Она любила своих друзей и хотела уверить их в своих дружеских чувствах. В результате им доставались почести, а Франция проигрывала сражения.
Принц Субиз проявил по отношению к маркизе лояльность, когда ее положение казалось ей шатким в связи с делом Дамьена. Маркиза сочла необходимым отблагодарить его за это, и принц Субиз был назначен командующим армий!
Этот легкомысленный и изнеженный человек никоим образом не соответствовал столь ответственному назначению. К месту военных действий он прибыл как на увеселительную прогулку сопровождаемый множеством цирюльников и прочей челядью, без которой не мог да и не думал обходиться, отнюдь не собираясь расставаться со своими версальскими привычками. Солдатам нужны были развлечения, а как же! Поэтому при войсках завели странствующих актеров. А женщины? Без них солдатам тоже никак нельзя. А женщинам необходимы удобства и удовольствия не хуже парижских. Куда ж тут денешься без модисток, парфюмеров, портних, не говоря уже о неизбежных парикмахерах.
Ни один офицер не смел появиться на дежурстве, не завив и не напудрив волос. При дворе было модно, чтобы мужчины занимались рукоделием, а офицеры — тоже, как известно, мужчины, и многие из них посвящали немало времени этому благородному занятию, пока их боевые подруги развлекали их пением и танцами или, сидя бок о бок с ними, тоже вышивали замысловатые узоры.
Как, однако, ни красочны были эти узоры, как ни сладостно подобное времяпрепровождение, все это ничуть не способствовало военным победам. Скорее наоборот.
Закаленные в боях англичане и ганноверцы были куда менее элегантны, зато гораздо более воинственны, чем изнеженные французы.
Никчемность Субиза стала очевидной в сражении при Россбахе, где двадцать тысяч солдат Фридриха разбили шестидесятитысячное войско, которым командовал принц.
— Французская армия собиралась, кажется, напасть на меня, но не оказала мне этой чести и бежала при первых же залпах наших ружей, да так, что догнать ее нам оказалось не под силу — так оценил позднее Фридрих эту битву.
Лагерь, брошенный французами, являл собой весьма необычное зрелище для победителей. Цирюльники удрали, побросав парики и пудру, парфюмеры тоже поспешили унести ноги, оставив врагу благоухающие пузырьки и флакончики, на память об офицерах остались их вышивки, а о недавнем присутствии дам свидетельствовали их роскошные наряды.
Такая добыча ничуть не привлекала грубых прусских вояк, не имевших никакого понятия о парижской или версальской элегантности. Духи, щипцы для завивки волос и изысканные женские наряды в их глазах не представляли особой ценности, а вышивки вообще приводили в недоумение. Пруссаков не обучали столь утонченному искусству.