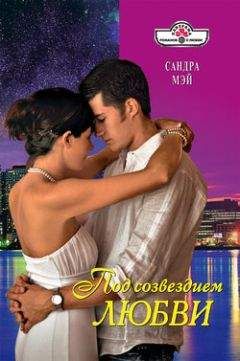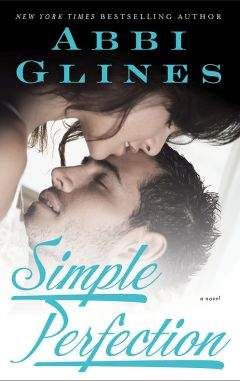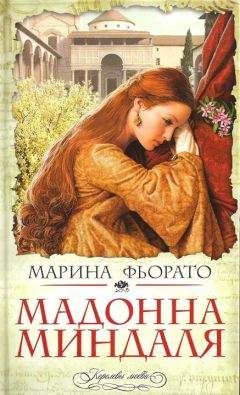Он скорчился, затекшие пальцы, словно паук, проползли по ноге, и он почувствовал под штанами очертания ножа. Рядом лежала записная книжка. Облегчение от того, что его секреты похоронены вместе с ним, было сравнимо с тем, что нож не потерялся. После трех неудачных попыток он вытащил нож, разрезав ткань. Подтянул нож к груди и медленно, ох как медленно, стал бороться с весом лежавшей на нем земли.
По крайней мере, я смогу свести счеты с жизнью, если не удастся освободиться.
Как только Коррадино почувствовал, что ожили ноги и он может пошевелить каждым пальцем, он разрезал мешок, в который его засунули.
Повсюду земля, темная, влажная, тяжелая, она засыпала глаза, рот и уши.
Коррадино плевался, кашлял, но продолжал копать, грудь его готова была разорваться. «Джульетта, — думал он, — Джульетта». Это имя звучало у него в мозгу, он мысленно повторял его, словно имя Богородицы, потом прошептал: «Аве Мария». Оба имени смешались в одурманенной голове, Святая Дева и трагическая героиня слились в одно, а к ним примешалось и имя его матери Марии, и маленькой Леоноры, ради которой он решился на это. Он копал и задыхался. Ему казалось, прошло несколько часов. Он боялся, что его зарыли слишком глубоко, что плотно примяли землю, что его и не собирались вызволять отсюда. Он чувствовал, что копает в сторону, а не вверх и утонет в земле. Вдруг он ощутил холод и сырость на пальцах. Кровь? Нет, дождь и ночной ветер. Он яростно рыл, легкие горели, а когда он вдохнул ночной воздух, этот момент стал самым прекрасным в его жизни. Пошатываясь, Коррадино выбрался из могилы. Он был слаб, его рвало. Он посидел, прочищая глаза от земли. Дождь лил как из ведра, и Коррадино превратился в скульптуру из грязи. Он подумал, что больше ему ничего не страшно.
Тем не менее страх вернулся. Он вспомнил предупреждение француза: «Пригнись, постарайся стать невидимым. За тобой по-прежнему могут следить. Иди к северной оконечности острова, ищи огни Сан-Марко и следуй за ними. Потом найдешь меня».
И снова Коррадино прижался к земле. Он полз по кладбищу между бесчисленными трупами, отделенными от него тонким слоем почвы. Под ногти забивалась земля и незнакомые растения, выросшие на мертвых телах. Ему мерещился хриплый шепот, на память приходили подробности дантевского «Ада» и ужасные его обитатели: грешники, предатели, такие, как его дядя, такие, как он сам. Казалось, он ползет целую вечность. Каждое мгновение он ожидал, что его схватит прогнившая рука или он услышит снизу хруст костей. Он цеплялся за траву, чувствовал, как сотни похожих на пауков существ карабкаются по нему, подбираясь к плечам. Коррадино старался подавить крик и вспоминал, что это не адские твари, a mazzenette — крабы с мягким панцирем, которых ловили на островах. Сегодня полнолуние, улов больше: крабов приносит вместе с приливом. Он стряхивал их с рукавов, но они забирались на лицо и лезли в волосы. Коррадино старался взять себя в руки, вспомнить, что крабы — одно из любимых блюд его детства. Грациэлла, старая повариха в палаццо Манин, пускала его в кухню и бросала еще живых крабов на сковороду. Крабы получались мягкими как снаружи, так и внутри. Коррадино полз все дальше, теперь он и сам походил на краба, но при мысли о том, что вкуснейшие крабы, должно быть, питаются мертвечиной, внутри все переворачивалось. Никогда больше он не станет их есть. Потом он наконец увидел Сан-Марко, огни тысяч окон светили, словно церковные свечи. Его глаза различили фигуру в плаще и рыбачью лодку. В памяти возник призрак, пришедший за ним на стекловарню, когда ему было десять. Может, к нему наконец явился ангел смерти?
— Vicentini mangia gatti, — выкрикнул он условленное приветствие.
— Veronesi tutti matti, — прозвучало в ответ.
Коррадино никогда бы не подумал, что обрадуется Гастону Дюпаркмье, однако заплакал от радости, едва поднялся на борт лодки, благодарно взяв протянутую руку.
Замерзший, свернувшийся клубком, он лежал на дне лодки, а она плыла по лагуне, и Коррадино слышал лишь слабый плеск весел. Он подумал, что старая дразнилка верна: веронцы и вправду сумасшедшие, например Джульетта. Конечно, она была сумасшедшей, если решилась на то, что ему только что довелось испытать. Но потом ему в голову пришла другая мысль.
Она не была сумасшедшей, она сделала это ради любви. Я тоже.
Так долго чего-то хотеть, надеяться, несмотря ни на что, а потом похоронить надежду и смириться. Почти забыть о том, чего добивалась, и вдруг получить желаемое и испытать в равной мере радость и ужас. Венеция — призма. Белый свет попадает в нее и становится радугой. Все здесь меняется, вот и я изменилась.
Леонора лежала подле Алессандро, сомкнув руки на голом животе и обнимая ребенка внутри.
Как всегда, ее разбудила какофония венецианских колоколов. Алессандро, привычный к этому, спал, не реагируя на пение города.
Ты не пугайся: остров полон звуков —
И шелеста, и шепота, и пенья…[76]
Она не возражала против такого пробуждения, напротив, радовалась колоколам. Она лежала в золотом утреннем свете, смотрела на изгиб спины Алессандро, тихонько гладила его теплые волосы и думала о предстоящем дне. Мысли ее путались: она пыталась понять, что будет дальше. От сугубо практических проблем — что она скажет Аделино? Как же работа? Да и есть ли у нее по-прежнему работа? — Леонора уносилась к картинам воображаемого будущего: вместе с Алессандро она укачивает золотоволосого ребенка, а их гондола скользит под мостом Вздохов. Ее мысли, подобно стае чаек, следующих за рыбацким судном, разлетались и вновь сбивались в кучу. Они возвращались к ребенку и важному вопросу: как сказать Алессандро?
Леонора слишком долго считала себя «бесплодной» — это старомодное слово застряло у нее в голове. Ей казалось, что оно красноречиво отражает всю ее жизнь, и не только из-за бездетности, но и потому, что ее оставили, бросили. Произносишь: «Бесплодный», и представляется что-то пустое, темное, такое болото, как описывала Бронте, где ничего не растет и никто не ходит. «Бесплодие» стало ее частью, ярлыком, который она наклеила на себя и таскала как тяжкое бремя. Она настолько привыкла к этому, что после первого «безопасного секса» они больше не пользовались контрацепцией. Алессандро, со свойственной итальянцам небрежностью, полагал, что Леонора позаботится об этом. Она сказала, что уже позаботилась.
Я не сомневалась в этом.
Она была так убеждена в своей правоте, что даже классический признак, о котором знает любая школьница, — тошнота по утрам — остался ею незамеченным. Даже отсутствие менструации она приписала стрессу от неприятностей на работе и рекламной кампании, но под конец уже не могла игнорировать сигналы, что в ее доселе бесплодном теле растет ребенок. Она не понимала, как так. Почему то, что не получалось с одним мужчиной, сработало с другим?