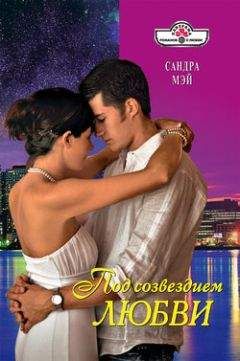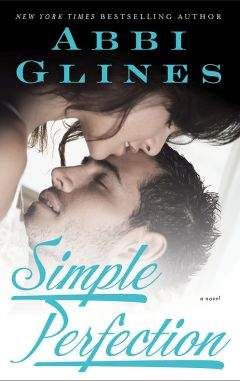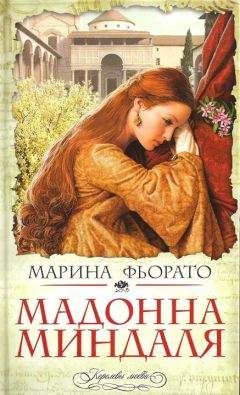Я должна разузнать все о Коррадино, прежде чем родится ребенок. Я должна примириться с прошлым и повернуться к будущему, ведь Коррадино — это прошлое и моего ребенка.
— Мне жаль, Леонора.
Видно было, что ему в самом деле жаль. Аделино выглядел старым и больным.
— Мне пришлось свернуть кампанию, и теперь с меня спрашивают долги. Я не могу больше тебя держать.
Он по привычке повернулся к окну — искал утешения в потрясающей панораме.
У Леоноры в животе что-то шевельнулось.
Это ребенок? Или осознание того, что я потеряла работу, ради которой приехала сюда?
Она положила руку на живот, и в этот момент он повернулся и заметил ее жест.
— А теперь твои… чудесные новости. — Аделино махнул рукой. — Дело не только в деньгах, надо и о здоровье подумать. Реактивы и краски, которыми мы пользуемся, не говоря уже о жаре… Тебе в любом случае пришлось бы скоро уйти. Когда ты думала? В феврале?
Она кивнула.
— Хорошо. — Он тяжело опустился в кресло. — Ты уйдешь в декретный отпуск — назовем это так, — а я пока буду следить за развитием событий и экономить средства.
— А потом? — прошептала Леонора.
— Не знаю, — покачал головой Аделино. — Все зависит от того, как пойдут дела. Между Рождеством и карнавалом у нас всегда простой. Не исключено, что мне придет конец. — Он снял очки и потер глаза. — Если честно, Леонора, я не смогу тебе платить, могу отдать только зарплату за этот месяц. Хочешь, подай на меня в суд, потребуй деньги за декрет. На острове это будет первый случай. Но мне нечего тебе дать.
— Я и не прошу.
Ей вдруг захотелось плакать. Абсурд какой-то: получается, во всем виновата она. Несмотря на то что не хотела участвовать в рекламной кампании, а все корабли Аделино утопила лишь его жадность, Леонора чувствовала на себе ответственность.
— Мне бы очень хотелось, чтобы ты вернулась. Но скажу правду: я просто не знаю. А сейчас, когда пресса устроила скандал, твое присутствие здесь…
— Усложняет дело? — закончила она за него.
Глаза Аделино, маленькие и незнакомые без очков, уставились в стол.
Ей нужно было выяснить еще одну вещь.
— А Роберто? Вы его вернете?
— Леонора, ты меня не слушаешь. Я не могу сейчас никого нанять, какой бы квалификацией не обладал человек. Даже если…
— Даже если что? Вы пытались?
Аделино тяжко вздохнул.
— Да, я ходил к нему. Но соседи сказали, что он уехал.
— Уехал? Куда?
— Они не знают. Думают, что за границу.
Леонора смотрела на него. Ей хотелось рассердиться, но она чувствовала лишь жалость. Грусть по поводу неизбежной развязки разговора смягчило только известие об отъезде Роберто.
Она встала, спустилась по лестнице и вошла в цех. Мужчины прервали работу и уставились на нее, правда, их взгляды, особенно в отсутствие Роберто, больше не тревожили Леонору. Ей хотелось в последний раз ощутить жар печей. Мастера опустили трубки, и стеклянные банки в едином порыве, как маятники, описали дугу. Тик-так. Время прошло. Повсюду ее окружало стекло, всех цветов радуги и степеней готовности. Леонора почувствовала запах кварца и серы и отвернулась, пряча слезы. Эмоции были смешанными. В каком-то смысле она стала счастливее, чем прежде. Ее ребенок, он рос в ней с каждым днем. Леонора нащупала стеклянное сердечко. Ребенок был сейчас вот такого размера, величиной с сердечко, которое она носила. Но в то же время она потеряла то, ради чего приехала. Свое призвание и с ним — средства к существованию. Выйдя из здания, она бросила прощальный взгляд на название улицы.
Набережная Манин. Если бы только я сумела доказать невиновность Коррадино! Если он снова станет для меня героем, сможет ли он спасти место, которое я помогла разрушить?
Коррадино тошнило. Он не знал, что лучше: чтобы его стошнило в экипаже, где невыносимо пахло духами, пудрой и помадой Дюпаркмье, или из окошка на улицу, шумную и зловонную. Дюпаркмье постарался, разоделся в пух и прах ради аудиенции у короля, и Коррадино тоже нарядили в роскошную парчу. Из покрытого грязью ожившего покойника он превратился в полуремесленника, полуаристократа, но сейчас испытывал большую дурноту, чем за время всего долгого путешествия во Францию.
Меня вырвет на новые штаны.
Париж казался ему адом. Каналы и узкие переулки Венеции и Мурано внушали спокойствие и уверенность, а широкие, просторные улицы Парижа, как ни странно, угнетали. Здесь он чувствовал себя в опасности.
И это зловоние.
Запах грязных человеческих тел был повсюду. Неудивительно, что Дюпаркмье постоянно прижимал к носу надушенный платочек. В Венеции, по крайней мере, можно было быстро и без опасности для здоровья избавиться от нечистот. Возле каждой двери плескался канал, люди спокойно выкидывали отходы в воду, туда же и испражнялись. В Париже коричневая, вяло текущая, наполненная человеческими отходами Сена распространяла на весь город вонь и болезни.
А этот шум! В Венеции слышен был лишь плеск воды под веслами гондольеров, тишина нарушалась только карнавальными шествиями и уличными спектаклями. В Париже у Коррадино раскалывалась голова от стука лошадиных копыт и грохота колес. До сегодняшнего дня Коррадино не встречал больше четырех лошадей зараз, и то это были бронзовые кони на базилике Сан-Марко. Здесь они наводняли улицы тысячами — огромные, безобразные, непредсказуемые. Повсюду стоял отвратительный сладковатый запах свежего навоза. Хорошо одетые горожане осторожно обходили дымившиеся кучи.
Здания, высокие и величественные, уступали в изяществе венецианским дворцам на Большом канале, но все же внушали уважение. На горизонте виднелась большая белая церковь с двумя башнями-близнецами и шпилями, похожими на обломанные зубы.
— Посмотрите, — сказал Дюпаркмье, — какие великолепные горгульи глядят на нас.
Смешное слово. Что оно означает?
Коррадино высунулся из кареты и увидел злобных демонов, скорчившихся на стене дома и, казалось, готовых напасть на него. Коррадино испугался и отпрянул. Экипаж остановился возле внушительного здания, и Коррадино невольно пожалел о городе, который оставил.
— Приехали, — пояснил Дюпаркмье.
Напудренный лакей в ливрее бросился к карете и отворил дверцу.
Раззолоченной приемной зале короля, на взгляд Коррадино, было далеко до Дворца дожей, где они с отцом однажды удостоились аудиенции.
Да и самого короля Коррадино представлял по-другому.