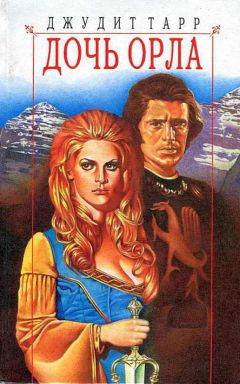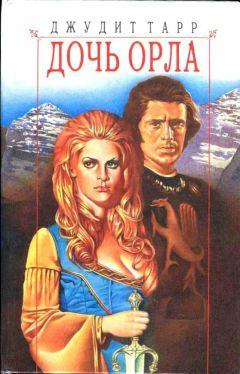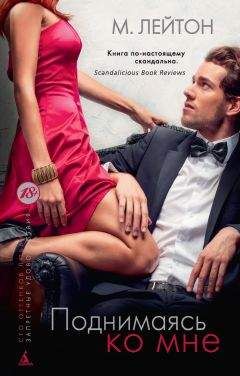Епископ открыл глаза. В них не было видно облегчения. Он видел лица прелатов, стоявших возле императора, и они не обещали ему ничего хорошего.
Его сообщники встретили приговор в оцепенении. Аспасия, взглянув на Сварливого, заметила искру холодного смеха в его глазах. Он склонил голову, но в этом движении не было покорности.
— Мы благодарим вас, — сказал он, — за ваше исключительное милосердие.
Мягкотелость, говорил его тон. Глупость.
Оттон чуть улыбнулся.
— Ты так считаешь, братец? Я рад. Но ты вряд ли будешь благодарить меня, когда я скажу до конца. Ты изгнан, но не куда тебе заблагорассудится. Мой господин епископ Утрехтский любезно согласился предоставить тебе пристанище под своим присмотром и под своей августейшей защитой до тех пор, пока я не сочту нужным избавить его от этого бремени.
Аспасия чуть не рассмеялась. Генрих стоял как громом пораженный. Двор, после мгновения недоверчивого молчания, разразился восторженными криками.
Конечно, было важно отделаться от него. Но Оттон разрешил проблему совсем по-византийски. Он избежал греха убийства родственника и угрозы кровавой междоусобицы, но и устранил опасность нового мятежа. Правда, Генрих прежде уже сбегал из заключения: он вырвался из Ингельхайма, чтобы поднять последнее и самое мощное из своих восстаний. Но Утрехт был очень надежен, а его епископ безупречно предан императору. На этот раз, Бог даст, Генрих останется там, куда его поместят.
— Останется, — сказала Феофано. Голос ее звучал спокойно, как верное обещание.
Аспасия перестала на мгновение расплетать ее тяжелые косы.
— Это ты уговорила его величество?
Феофано вздохнула, выгнула ноющую спину.
— Какая разница, чье это решение?
— Никакой, — согласилась Аспасия.
Феофано полуобернулась, слегка нахмурившись. Аспасия улыбалась. Через мгновение Феофано уже смеялась, не слишком долго, не слишком беззаботно, но достаточно искренне.
— На самом деле, — сказала Феофано, — я хотела, чтобы он казнил, по крайней мере, главаря. Но он отказался. «Мой отец никогда не убивал родственников, — сказал он, — и я не буду».
— Странно, — протянула Аспасия, — насколько он стал ценить своего отца после того, как старик умер.
— Разве так бывает не всегда? — Феофано рассматривала себя в зеркале. Аспасия видела, как оно отражает бледную красоту Феофано и ее саму тенью у самого края.
Феофано опустила зеркало. Слух у нее был тоньше, чем у Аспасии: через мгновение и Аспасия услышала голоса снаружи.
Они звучали сдержанно. Но разговор шел не дружеский.
Феофано сидела неподвижно, даже когда ссорящиеся влетели в комнату и оказались перед ней. Впереди был Оттон. Без короны, придворное платье заменила простая туника, которую он обычно носил дома; лицо его пылало. Он остановился посреди комнаты и резко обернулся.
— Нет, нет, нет! Ты понимаешь? Нет!
Императрица Аделаида вышла следом, совершенно не обращая внимания на то, что кто-то может слышать их спор. Она была выше и массивней своего сына. Она грозно нависала над ним.
— Ты не послушаешься своей матери?
Оттон покачнулся, словно от удара, но устоял.
— Ты моя мать. Но я император.
— По какому праву?
Она повторила слова Генриха прямо в лицо Оттону. Он побелел.
Феофано поднялась. Она делала это медленно, чтобы привлечь к себе все взгляды. Так обучают византийских цариц. Напрасно: эти двое не замечали никого, кроме себя. Но в ее арсенале было и другое оружие. Она сказала:
— Добрый вечер, мой господин и моя госпожа.
Оттон вздрогнул, как олень. Аделаида обратила всю силу своего гнева против Феофано.
— Конечно, это добрый для тебя день, лишивший моего сына последнего разума.
Феофано подняла бровь.
— И как же, по-вашему, это мне удалось?
— Она тут ни при чем! — У Оттона был такой вид, как будто он готов кого-нибудь прикончить. — Моя госпожа тут ни при чем! Это ты готова лишить меня трона и посадить на него двоюродного братца!
Аделаида внезапно остыла.
— Может быть, он и заслуживает этого. Разве ты совершил что-нибудь, достойное твоего отца?
Что бы там ни было, Оттон был ее сыном. Он тоже остыл, остыл и успокоился.
— Это изменнические слова.
— Это правдивые слова, — сказала она. — Здесь не твоя любимая Византия. У нас не бывает династий. Трон достается тому, кто больше всех достоин занять его.
Оттон засмеялся резким, почти истеричным смехом.
— Сколько же заплатил тебе братец, чтобы ты предала собственного сына? Или это просто ядовитая ревность, поскольку моя жена — моя императрица, и ее советы достойны внимания?
На щеках Аделаиды запылали безобразно яркие пятна.
— Значит, ты не сделаешь, как я прошу?
— Я не откажусь от моей императрицы, сколько бы дочерей она ни принесла мне. Я не буду твоей игрушкой, не буду плясать под твою дудку. Хотя ты мне и мать, — сказал Оттон.
Феофано слушала с завидным самообладанием. Она прекрасно знала, чего добивается Аделаида от сына: у нее везде были свои глаза и уши. Она также прекрасно знала, что мать-императрица просила за мятежников, уговаривая сына вернуть Сварливому его герцогство. Может быть, Аделаида действительно верила, что иначе мира в королевстве не добиться. Конечно, ее неприязнь к Феофано выросла уже почти до ненависти, ненависти, вскормленной острой ревностью, поскольку Феофано не нуждалась в чьих-либо советах и учила Оттона поступать так же.
Теперь заговорила Феофано, как могла мягко:
— Конечно, мать может соперничать с женой сына за власть над ним. Это естественно и, может быть, даже неизбежно. Но предавать сына ради его врагов — это скверно.
— Я не… — начала Аделаида.
Феофано оборвала ее:
— Мы знаем, что это было. Или это называется верностью императору, когда открыто идут к его врагам и обещают им всю возможную помощь?
— Я поступила так в память о моем покойном муже. Мой сын, который жив, — мой сын связался с сыном изменника, отдал ему Баварию, вместо того, кому она принадлежит…
— Вместо того, кто потерял ее, восстав против своего законного повелителя? — Феофано смотрела на нее широко раскрытыми темными глазами, вся воплощенное наивное недоверие. — Ты так ненавидела принца Людольфа? Он был твоим пасынком, английским львенком и, действительно, поднял восстание против своего отца. Но отец простил его. Если бы он не умер, он бы стал императором. Ты хотела свергнуть своего собственного сына, потому что он осмелился жить в дружбе с сыном Людольфа?
— Не из одной лишь дружбы он отдал этому щенку герцогство Баварское. — Голос Аделаиды был полон яда.