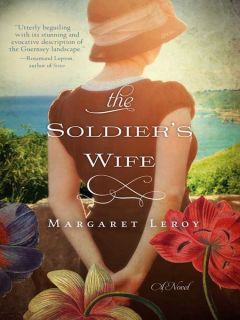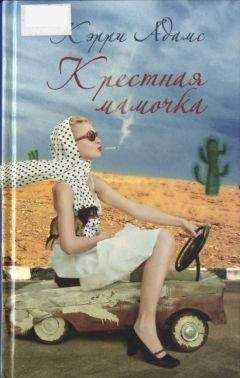Той ночью я расспрашиваю Гюнтера про Олдерни.
— Говорят… Ходят разговоры про Олдерни, — говорю я ему. — Мне рассказала подруга… — Я прочищаю внезапно пересохшее горло. — Она сказала, что люди там голодают. Ходят слухи о том, что там творится что-то плохое. Ты знаешь, что там происходит?
Его лицо застывает.
— На Олдерни расположены рабочие лагеря, — говорит он. — Они не имеют к нам отношения. Я уже говорил тебе, Вивьен. Это «Организация Тодта». — Он гладит мои волосы. — Дорогая, давай не будем о них думать. Пожалуйста. Давай не будем тащить их в эту комнату.
«Он не знает, — уговариваю я себя. — Он не имеет с ними ничего общего».
Погода меняется. По утрам нас будят белый солнечный свет и чистое голубое небо. Мой сад полон пены из цветов, и трава под деревьями усыпана бледными лепестками.
Вечера становятся длиннее, и Милли с Симоном успевают поиграть на улице перед чаем. На обочинах красуются глянцевые, словно покрытые лаком, листья чистотела, а в полях танцуют нарциссы, источая аромат щербета. Белый лес дрожит и трепещет от птичьих трелей.
Энжи говорит, что на полях Гарри Тостевина рядом с вершиной утеса растут грибы — большие мясистые лисички.
Так что однажды в субботу я оставляю Эвелин с Милли и на велосипеде отправляюсь на утес. Воздух пахнет сменой времен года, он несет с собой свежий зеленый запах пыльцы и растительных соков и кокосовый аромат цветущего дрока. На улице так тепло, что мне не нужен кардиган. Легкий ветерок колышет травы, словно их гладит чья-то ладонь.
Добравшись до конца дороги, я вижу блики на море. Отсюда волны кажутся маленькими и движение воды почти не заметно. В теплых солнечных лучах мое тело становится легким, почти воздушным. Я думаю о Гюнтере и о том, что счастлива, несмотря ни на что.
Я оставляю велосипед лежать около дыры в ограде. Тут грязно, мокрая земля чавкает под ногами. Я нахожу чудные лисички в скрытых канавках и влажных, затененных впадинах под оградой.
В тени еще не высохла роса, и мои туфли и манжеты на блузке потемнели от влаги. У грибов насыщенный земляной запах. Я набираю полную корзину и думаю, как буду их готовить с кусочком специально отложенного масла. У меня текут слюнки, когда я представляю, как это будет вкусно.
Смутно ощущаю чье-то приближение, нарушившее спокойствие дня. Далекое движение, мужской крик. Звуки становятся ближе, и я понимаю, что мужчина кричит по-немецки.
Голоса приближаются, становится слышен топот множества ног по дороге. Меня охватывает негодование: что-то собирается вмешаться в мое мирное утро. Появляется инстинктивное желание спрятаться, но я слишком долго тянула и остаюсь стоять на месте.
Вижу, как по дороге проходит бригада рабочих, около дюжины. Должно быть, они направляются на вершину утеса, строить то гитлеровское кольцо укреплений, о котором говорил мне Джонни. Их внешний вид приводит меня в ужас.
Они одеты в лохмотья, а их кости — ключицы и косточки запястий — выпирают сквозь кожу. Они бредут, не поднимая ног, согнув спины, будто придавленные ужасной тяжестью.
Рабочих сопровождают двое охранников, чья форма отличается от уже привычной нам серой формы солдат Вермахта. У этих форма коричневая, а на рукавах повязки со свастикой.
Я смотрю, как они проходят. Сердце громко колотится в груди.
Один из заключенных хромает. Я вижу, как он спотыкается и падает. Его оставляют позади, он пытается встать, но не может: он слишком слаб, возможно, ему слишком больно. Один из охранников разворачивается и идет к заключенному.
Моя первая, глупая и наивная, мысль о том, что, по крайней мере, он поможет мужчине встать. Но он что-то кричит по-немецки, становится понятно, что он ругает упавшего. Заключенный старается подняться, но снова беспомощно падает
Охранник стоит над ним, а потом бьет прикладом автомата — бьет снова и снова, так что я слышу, как автомат бьет по коже, по костям. Слишком громкий звук на тихой дороге. Мужчина на земле едва двигается, закрывает руками лицо в попытке защититься, но потом его руки бессильно падают.
Яркая кровь течет изо рта. Охранник опускает автомат и вытирает приклад о траву. Я говорю себе, что теперь он уйдет, может быть, мужчина еще жив, может быть, когда рабочая бригада уйдет, я смогу подойти к нему и помочь…
Но охранник делает шаг назад и пинает мужчину ногой по голове, разбивая ее. Я слышу звук, с которым ботинок ломает череп. Из раны сочится что-то красное и комковатое. Я не хочу думать об этом или смотреть, но не могу отвести глаза.
Меня охватывает короткий порыв подбежать к охраннику, остановить его. Я даже делаю несколько шагов в его сторону, но что-то тянет меня назад: мысль о детях и Эвелин, о людях, которые нуждаются в моей заботе. Меня начинает трясти.
Я стою на месте, дрожа и разрываясь. Охранник поднимает глаза, видит меня и пожимает плечами. Ему плевать на то, что я здесь, что я вижу все, что он делает. Он непринужден, он не испытывает вины. Он снова пинает мужчину, лежащего на земле, и продолжает бить его ногой еще долго после того, как мужчина перестает двигаться, тяжелый ботинок ломает разбитую голову.
Дрозды продолжают петь, цветы тянут вверх свои свежие головки. Я не понимаю, почему поля выглядят такими же, как всегда, такими яркими и по-весеннему свежими. Эта яркость кажется мне возмутительной.
Охранник уходит, оставив мертвого человека лежать, как будто он ничто, хуже, чем ничто. Меня рвет прямо в канаву.
Милли играет в кухне. Она так поглощена игрой, что не смотрит на меня.
— Смотри, мамочка, это свадьба.
Ее куклы выстроены процессией на кухонном столе.
— У меня тоже будет свадьба, — говорит она. — Я выйду замуж за Симона. Я надену большую шубу с пурпурными розами.
Она стоит в солнечных лучах, которые заливают мою кухню.
Ставлю корзину с грибами на стол.
— О, грибы. Я люблю грибы. Когда мы будем их есть? — спрашивает Милли.
Я пытаюсь ответить ей, но мои губы, кажется, отказываются двигаться.
Тогда Милли поднимает на меня глаза и хмурится.
— У тебя смешное лицо, — говорит она.
— Правда?
Я не в состоянии сказать: «Не волнуйся, это не из-за тебя», не в состоянии произнести ни слова.
— Мамочка, скажи мне, — беспокоится Милли. Она слезает со стула и подходит, чтобы обнять меня. — Скажи мне, в чем дело. Мамочка, ты поранилась?
— Мне просто нужно минутку побыть одной, — говорю я. — Ты можешь сделать так, милая?
Она убирает руки и пристально смотрит на меня. На ее личике испуг. Никогда раньше я не просила ее о подобном.